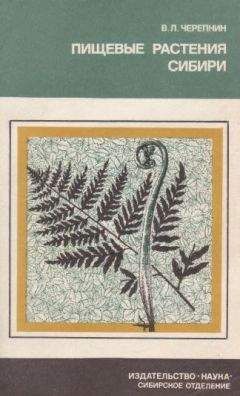Бердыназар Худайназаров - Люди песков (сборник)
Дорожка из срезанных кустиков селина, черкеза и даже астрогала, темнея на снегу и петляя во все стороны, тем не менее становилась все длиннее. Чабаны работали споро, как будто не намаялись за день. Со стороны могло показаться, что каждый стремится обогнать других. Впереди, задавая темп работе, двигался Каратай-ага. Но вот его обошел Орамет, а затем и Ходжав. Теперь я видел, как трудно приходится старику; не в силах согнуться, он опускался на корточки возле каждого кустика, прежде чем подрезать его, а затем с трудом поднимался, опираясь на серп. Да и резкие прежде движения Орамета стали замедленными.
И все же темная дорожка на снегу уходила все дальше.
Я шагнул на эту дорожку и стал собирать срезанные кустики травы, складывая их в кучу. Сначала это было нетрудно; трудно стало, когда мои тонкие перчатки, не пригодные для такой работы, порвались и холод промерзшей травы начал обжигать мне пальцы. То и дело приходилось останавливаться, согревать пальцы дыханием или совать их в рукава пальто. Однако я не отступал. Куча травы все росла, затем появилась другая, третья… Луна уже поднялась высоко. Неужели они собираются работать до рассвета?
Пальцы мои стали деревянными. Я даже удивился, когда увидел на них кровь; она сочилась из ободранной ладони. Пришлось зализать ранку, как в детстве.
Позади остались шесть невысоких копен. В лучшем случае будет еще столько же. И это на всю отару, на тысячу овец. Надолго ли им хватит? Продержатся день, другой… А потом?
— Возьмите. Каратай-ага велел…
Возле меня стоял Ходжаев и протягивал рукавицы из грубой толстой шерсти. Чолук запыхался, и я понял, что он бегал за ними в мазанку. Я взял рукавицы, радуясь, что наконец-то мои бедные пальцы окажутся в тепле, и одновременно страдая от мысли, что теперь у меня не будет никакой причины прервать работу, что я, признаться, уже собирался сделать.
Теперь каждое движение отдавалось в теле тупой болью. Я стал, как Каратай-ага, опускаться на корточки возле каждого срезанного кустика, поднимая его, только бы не сгибать и не разгибать натруженную спину.
И опять меня выручила моя Садап.
"Эй! Верблюжонок! — будто услышал я ее задорный голос. — Ты кто — мужчина или сосунок? А-а-а, я знаю кто! Хвастунишка! Оказывается, и среди кумли есть хвастуны. Или это вообще характерная их черта? Что ты как перекисший чал! Вперед, мой дорогой! Догони их!"
"Они — привычные! — пытался оправдаться я. — Попробовали бы написать репортаж, поглядел бы, как они вспотели…"
"Ты умеешь делать и то и другое. Ты пишешь прекрасные репортажи, которые висят на стенде, как лучшие материалы, печешь великолепные лепешки и складываешь отличные копны. Люди могут все! Они могут превратить пустыню в оазис и оазис в пустыню! Важно дать верное направление…"
"Это говорил Касаев…"
"Тем более!"
Я знаю, что Садап мне не переспорить; язык у нее подвешен что надо. И хотя на людях мы всегда соблюдаем правила игры в хозяина дома и покорной его жены, на самом деле это, увы, не так. Впрочем, я не страдаю. Наверное, оттого, что мы любим друг друга. Когда любишь — какая разница, кто главный? Главный тот, кто сильнее любит. Так я считаю.
Нагнуться, сгрести траву с одной стороны, с другой, разогнуться… Так. Еще раз… Так, Садап?
Некоторые прямо говорят: с женой тебе повезло! И за этой невинной фразой — подтекст: мол, не по себе сук срубил! Повезло — это точно. Без подтекста. Если кто не верит — пусть спросят у Садап. Один храбрый нашелся — она ему объяснила, теперь как ее увидит на улице — на другую сторону бежит.
…Ох, как болит спина. Хотя бы перекур устроили. И какого черта я задержался в этом Аджикуйи? Нет, это я не тебе, Садап, это я так… в пространство. День-другой мы продержимся. А потом, если не пробьются машины, прилетит вертолет. Вертолетами возить корма? Во сколько это, интересно, обойдется? Наш главный не устает повторять на летучках: "Учитесь считать. Журналист, не умеющий считать, — простой репортер!" Сейчас, конечно, никто не считает, важно спасти скот…
Где-то на востоке завыл волк. И тотчас от коша ему ответили лаем собаки, словно бы предупреждая: мы здесь!
— Перекур! — раздался хрипловатый голос Орамета.
5Мы вернулись в кош далеко за полночь. О том, как я устал, больше говорить не хочу, а то могут подумать, что расхныкался. Я не решился бы говорить об этом и раньше — никому не хочется выставлять себя слабым, а тем более мне, кумли, человеку, для которого слабость непростительна, — если бы не одно обстоятельство. Я стал смотреть на все, что происходило здесь, в коше, не так, как раньше. Конечно, и раньше чувство ответственности не покидало меня ни на минуту, но это было, так сказать, абстрактное чувство. Теперь оно приобрело конкретность. Когда мы вернулись в кош и увидели, что изгородь загона удлинилась всего на несколько метров, да и те сделаны кое-как, больше всех рассердился на ребят я. Каратай-ага оглядел их работу, просунул руку в одну из расщелин, через которую со свистом врывался ветер, перевел взгляд на овец, теснившихся в другой стороне, подальше от лютого сквозняка, пнул сапогом-чокаем в жидкий столбик изгороди и пошел в мазанку, не сказав ни слова. За него высказался Орамет.
— Вы что же делаете? — закричал он на оробевших парней. — Овчарню или насест для воробьев? У печки грелись?
Он ругался, а я смотрел на этих лодырей молча, и такая злость разбирала меня, что, кажется, готов был кинуться в драку. Мы старались, не жалея себя, мы вчетвером наработали столько, сколько целая бригада не сделала бы за сутки… А эти дезертиры у печки грелись! Я едва сдерживался, чтобы не высказать им все, что кипело в моей душе. И не было у меня к ним жалости, когда подпасок, разогревавший еду, спросил Каратая-ага:
— Звать их?
И Орамет ответил жестко:
— Не надо! Не заработали они сегодня ужин!
Едва мы успели поужинать, как снаружи послышался яростный лай собак. Орамет, выскочив из мазанки, прикрикнул на них и вскоре вернулся с незнакомым человеком, одетым, как обычно одеваются чабаны в этих краях, — в чекмень, тельпек и чокаи. Ночной гость поздоровался и придвинул к себе пиалу с чаем, поданную ему Ораметом.
— Что так поздно? — спросил Каратай-ага. — Не случилось ли чего?
Мне показалось, что гость основательно продрог в пути и никак не может согреться: он дрожал так, что едва удерживал пиалушку. Но вскоре я понял, что он сильно волнуется.
— Ягненок пропал! — произнес он, тяжело и прерывисто вздохнув, как вздыхают порой наплакавшиеся дети.
— И ты ночью шел, чтобы сказать нам это? — удивился Каратай-ага. — Отара цела?
— Отара цела… Помоги нам, Каратай-ага!
Старик горестно покачал головой:
— Чем я могу помочь? Мы сами потеряли не одного ягненка. Извини, дела ждут.
Каратай-ага вышел из мазанки, за ним — Орамет с подпаском. Я тоже поднялся было, но понял, что не смогу сделать и шагу. Про пальцы нечего и говорить: они распухли и ныли.
"Десять минут. Через десять минут ты будешь на улице!" — тем не менее приказал я сам себе. И тут же словно провалился в сон. Впрочем, это был не сон, а какая-то болезненная дремота, которая наступает после очень сильной усталости, когда и спишь и бодрствуешь одновременно. Во всяком случае, я слышал то, что говорил мне человек, сидящий напротив, поддакивал ему и даже спрашивал о чем-то. В конце концов я понял, что речь идет не о гибели ягненка, а о пропаже, и главное — не простого, а поистине золотого ягненка чрезвычайно редкой золотистой окраски, которая называется "сур" и которая очень высоко ценится. Рождение такого ягненка — событие в коше, его особо опекают и откармливают, за ним следят день и ночь… Он родился в соседней отаре в эти тяжелые дни, этот ягненок-сур, и чабаны, занятые по горло делами, не уследили за ним. Его украли. И украл не волк, а хищник двуногий. Следы вора занесла метель, остался один-единственный, у входа в овчарню. Чабаны накрыли его казаном, чтобы не засыпало снегом, и решили просить Каратая-ага, известного на всю округу следопыта, помочь им…
— Яшули! — сказал я, едва ворочая языком. — Он вас не понял. Объясните ему как следует…
Чабан поспешил из мазанки, и я закрыл глаза. За стеной тревожно потрескивал костер. Раздался хриплый голос Орамета:
— Хей! Смотри не засни! Свалишься в огонь!
Жалобный голос одного из парней ответил:
— Лучше сгореть, чем замерзнуть!
— Э-э, тоже мне мужчина!
Кто-то вошел в мазанку, наклонился надо мной, укрывая тулупом. Морщины на лице, седая борода… Каратай-ага!
— Сейчас встаю! — пробормотал я сконфуженно.
— Спи, сынок. Ты хорошо поработал. Надорвешься с непривычки.