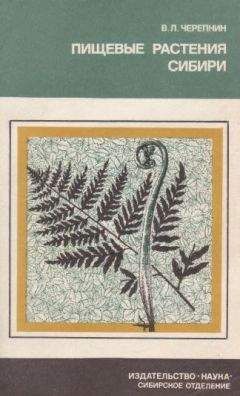Бердыназар Худайназаров - Люди песков (сборник)
Признаться, мне было очень приятно, что наш главный помнит: я — кумли, мне ничего не надо объяснять! Я хорошо представлял себе положение. Даже старики не помнили такой суровой снежной зимы. Со вчерашнего вечера тревога за судьбу моих земляков, желание помочь им не оставляли меня. Я готов был ехать куда угодно. А тем более к Мерету Касаеву!
Я словно бы увидел его — коренастого, крепкого, еще не старого — первая седина на висках, полного той спокойной уверенности, которая не подавляет, а, наоборот, передается другим. Чем больше я думал о предстоящей командировке, тем больше успокаивался, вспоминая этого человека, с которым познакомился совсем недавно и который оставил в моей памяти, несмотря на кратковременность знакомства, заметный след.
Разумеется, я знал о нем и раньше, а на одном из совещаний не удержался, подошел после выступления, сказал, что давно не слышал такой дельной речи.
— "Верблюд говорит, ишак говорит… Каждый по-своему и все — дельно! Кто слышит?" — засмеялся Касаев, лукаво подмигнув мне. — Приезжай, сам все увидишь, потом расскажешь. У тебя голос вон какой… Далеко разносится! — Он с уважением пощелкал по футляру моего магнитофона, перекинутого через плечо.
Через месяц — раньше не удалось — я приехал к нему. К сожалению, ненадолго; командировку выписали на два дня, я задержался на четыре, потом в редакции мне влетело, бухгалтерия отказалась оплачивать перерасход. Но какое это имело значение? Победителей не судят: мой репортаж о Мерете Касаеве две недели висел на стенде лучших материалов.
2На этот раз сборы были короткими. Я только успел забежать домой, позвонил на работу жене, наскоро проверил магнитофон, взял запас сигарет и помчался на аэродром. Через час вертолет доставил нас в Центральные Каракумы, в Кизылтакыр. Здесь размещался штаб, созданный для помощи животноводам.
Председатель штаба, смертельно уставший человек, с заросшим щетиной, опухшим от недосыпания лицом, встретил меня неприветливо и сразу огорошил:
— Как вы доберетесь до отар? Машины даже к нам еще не пробились.
Это я знал и без него. Мы видели их сверху, с вертолета, — цепочку грузовиков, темнеющих на снегу, впереди — два бульдозера, прокладывающих дорогу. Мы заметили их в самом начале полета, перед нами лежали еще многие километры снежной целины.
Непрерывно звонил телефон. Ашхабад спрашивал, советовал, сообщал новости. Начальник штаба встряхивал головой, из последних сил борясь со сном, отвечал: "Направьте сено в дальние отары… Не забудьте теплую одежду…"
Завтра в Ашхабаде ждут мой первый репортаж. Звукозапись я должен отослать туда первым же вертолетом. Но как, в самом деле, я доберусь к чабанам? Репортаж нужен сегодня, сейчас. Люди должны знать: помощь идет! Но и они не имеют права сидеть сложа руки, надеясь на нее. Мерет Касаев правильно сказал: "Люди могут все! Они могут сделать из оазиса пустыню. Или наоборот: из пустыни оазис. Все зависит от нас, руководителей. Важно дать верное направление…"
На измученного начальника штаба я не обиделся, хотя привык к тому, что корреспонденты везде желанные гости. Ведь мы делаем общее дело — даем верное направление. Недаром в глубинке меня всегда встречают как своего, в Ашхабаде часто присылают персональное приглашение на совещания.
— Послушайте! — сказал я начальнику штаба. — Отдохнули бы. Вы с ног валитесь.
Он ответил с досадой:
— Вам нечего делать здесь, зря теряете время. Машины пробьются к отарам через два дня, не раньше.
Это мне уже не понравилось. Я выполнял свой служебный долг так же, как и он.
— Найдется дело! Вы сейчас ляжете спать. Часа на два. Я буду дежурить. Если что срочное — разбужу. Потом вы скажете несколько слов о работе штаба, дадите мне лошадь, и я поеду в отару. И вообще…
Произнес я это все на едином дыхании, довольно запальчиво, проглотив последнюю фразу насчет паникерских настроений, о которых упомянул сегодня утром наш главный.
Однако моя запальчивость ни к чему не привела: спать он не лег и рассказывать о работе штаба наотрез отказался, проворчав: "Некогда…" Впрочем, настаивать я не стал: голос у него был такой усталый, что передавать его в эфир никто бы не решился. Я сам продиктовал коротенький бодрый репортаж, построив его на бесконечных звонках из Ашхабада, в которых сообщалось то о новой автоколонне с грузами для отар, то о бульдозерах, дополнительно выделенных для расчистки дорог, то о добровольцах, посланных на помощь чабанам…
Лошадь начальник штаба распорядился мне дать. При этом он несколько оживился, видимо очень довольный моим отъездом, и даже вышел, чтобы проводить меня или, скорее всего, посмотреть, как я буду садиться в седло. Я не ездил верхом много лет, но эта наука не забывается. Вскоре я остался один в заснеженной пустыне. Ледяной пронизывающий ветер мигом заставил меня изменить городским привычкам. Выезжал я, сдвинув на затылок шапку-ушанку, небрежно обмотав шею легким шарфом и даже не застегнувшись на верхнюю пуговицу. Теперь пришлось поднимать воротник, завязывать под подбородком наушники шапки.
До чабанского коша Аджикуйи, куда я направлялся, было не так далеко, километров десять, на машине рукой подать. Но по бездорожью, на лошади, которая, порой оступаясь с узкой тропинки, проваливалась в снег по грудь, километры эти казались бесконечными. Снег настолько изменил облик Каракумов, что я не узнавал их и чувствовал себя словно в чужих краях. Тропинка то вилась по равнине, то взбиралась на холм, то ныряла в глубокий овраг. Со дна оврагов холмы представлялись заснеженными вершинами Копет-Дага. Но больше всего неоглядная снежная пустыня напоминала суровую тундру. Наверное, и я со стороны был похож на северного оленевода, только вместо малицы и унтов на мне городское пальто и валенки.
Поглядела бы сейчас на своего благоверного Садап! Закружила бы, запела тоненько: "Увези меня ты в тундру, увези меня одну-у…" А ведь это она заставила меня надеть валенки, хорош был бы я на морозе в ботинках.
Что она сейчас, интересно, делает? Да тут и гадать нечего, разумеется, названивает по телефону: "Говорят из управления! Атаджанова! Сообщите, пожалуйста, сколько ваших машин ушло сегодня на отгонные пастбища…"
У нас не принято говорить о женах — ни о своих, ни о чужих. Но себе я могу признаться: с Садап мне здорово повезло. Даже Мерет Касаев, узнав, что Садап — моя жена, удивленно и уважительно переспросил: "Твоя жена? Очень деловой, принципиальный товарищ…" Это про мою-то хохотушку Садап! Впрочем, говорят, на работе она действительно деловая и принципиальная.
Мысль о жене немного согрела меня. Через три дня я вернусь домой и первым делом расскажу, как вспоминал ее в пустыне среди снегов, на пронизывающем ветру и как, согревая, пела она мне: "Увези меня ты в тундру…" А может быть, и не расскажу, не все надо знать женам, что думают о них мужья, даже если думают о них с нежностью. Я так считаю…
Время шло, а тропинка, проложенная в снегу одинокими всадниками, по-прежнему вилась под копытами коня и исчезала вдали. Я всегда был уверен, что нашел бы дорогу ко многим колодцам в песках; может быть, и не ко всем ста восьмидесяти, но к большинству. Правда, мне никогда не приходилось этого делать. Обычно, прибыв в район, садишься вместе с руководством в "Волгу" и, подставив лицо встречному ветерку, спокойно едешь, разговаривая о том о сем, пока шофер гонит машину через пустыню. Эти места я проезжал с Касаевым не так давно, но, если бы не тропинка в снегу, я, пожалуй, не нашел бы пути в отару. Я узнавал и не узнавал окрестности. Где-то здесь, да, как раз за тем оврагом, я спросил Касаева: "Позвольте задать вам несколько необычный вопрос: ваше представление о счастье? Ваша заветная мечта?"
Мы направлялись тогда с ним в дальний кош. Касаев сам вел машину, оставив в конторе шофера — вертлявого парня с раздвоенным давним шрамом подбородком. Услышав мой вопрос, Мерет Касаев затормозил и долго сидел неподвижно, глядя сквозь лобовое стекло на гряду барханов. Мне показалось, что он даже растерялся. Ведь обычно его просят: "Расскажите, пожалуйста, о ваших достижениях…" И он отвечал привычно: "В нашем совхозе широко пропагандируются постановления и решения пленумов районного Совета…" Ну и так далее.
"Моя заветная мечта, — наконец произнес он, и голос его был тихим, словно бы севшим. — Трудно об этом. Как о любви. Спроси что-нибудь другое, а? Я вот недавно в Африке был с делегацией… Рассказать?"
Я промолчал.
"Хм… Поймал ты меня. Погоди, а есть ли оно, счастье? Вот я был мальчишкой, приехал к нам, помню, в кош какой-то начальник на машине. Казалось мне: промчаться бы в этом рычащем сверкающем чуде — и больше ничего не надо. Самое большое счастье. Потом в город уехал учиться. Вокруг все такие умные, о книгах говорят, о политике… А я — чурбан чурбаном. Как я им всем завидовал! Об одном мечтал — сравняться с ними. Сравнялся. Даже обогнал многих. Счастье? Как бы не так! Работать начал. Эх, думаю, сколько можно сделать, если бы мне люди доверили… Доверили. Многое сделано. А все мало! Придет срок — всю пустыню садами покроем. Представляешь? Сплошной оазис. Белоснежные дворцы между деревьями и голубые озера. И наши дети и внуки на берегу. Счастье? Нет. Мечта вперед уйдет! А между прочим, в Африке остановились мы проездом в деревушке маленькой, смотрю — мальчуган стоит возле нашей машины, и одна в глазах мечта: промчаться бы в этом сверкающем чуде, ничего больше не надо! Вот так-то, дорогой. За мечтой не угнаться, и в этом наше счастье".