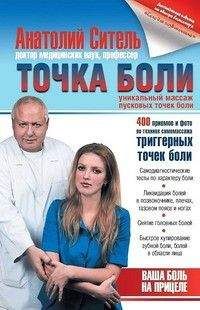Анатолий Загорный - Легенда о ретивом сердце
Илейка второй раз припал к кружке, сделал несколько больших глотков. И будто бы снова в дальних камышах вскрикнула птица радости — Сирин.
— Дай ему силы, которой ты ворочаешь горы, сталкиваешь реки, и из малой силы вырастет большая, как из желудя дуб… Чувствуешь, силы поприбавилось?
— Поприбавилось, — эхом повторил Илейка, голова его шла кругом. — Могу гору своротить.
Он усилием воли приподнялся на печи, затрещали кости, будто дерево отходило от мороза, большое, могучее дерево.
— Не следует того делать, чадушко. Выпей в третий раз — поубавится силы, — откуда-то издалека доносился голос калики. — Твоя болезнь в середке, пей!
Выпил. Бледнея, попробовал пошевелить ногой, болезненно сморщившись, слушал гулкие удары сердца, будто кто в большой темной пещере рубил руду. Калики! Сухари плесневелые! Они похохатывали воркуючи, им не было больно. Гоняли в нем кровь, как хотели. Пальцы на ногах будто бы пошевелились. И тогда вне себя от радости Илейка откинулся на руках, бросил кружку, разбил ее па мелкие кусочки. Калики подскочили к нему, ухватили за ноги, потащили с печи:
— Слазь, слазь! Не такой тебе конь нужен, и смерть тебе в бою не писана! Подружишься с огнем, водой, с полем и ветром — детей не познаешь!
Близко видел перед собой старческие лики — в морщинах черпая пыль. Что-то разомкнулось в душе. Илейка был потрясен. Камень из печи вывалился, упал на пол, завернулась горбом овчина, полетела моль.
— Становись, чадушко, становись на пол! Не бойся, двигай йогою-то! Вот оно, хоженьице, — бормотал рыжебородый. — Вставай на ножки. Иванов сын.
Вот оно! Долгие дни и долгие ночи ждал Илья могучего слова. Давно был готов подняться. И дождался.
Илейка стоял на ногах, держась за печь обеими руками. ему предстояло сделать первый шаг. Ой, как трудно сделать его! И потолок, кажется, давит на плечи, и глиняный пол держит, и дверь качается из стороны в сторону, как хмельная. Вся изба вдруг отяжелела, словно ладья, погрязшая в иле. Еще немного — и Илья упадет, не выдержит, грохнется, разобьет об угол затылок. Уже судорожно сжалось горло, уже начинали дрожать руки и темнело в глазах. Звон, звон шел из угла, стена перла прямо на него. Илейка пошатнулся, но выстоял в этой борьбе с самим собой, не упал. Почувствовал, как горячей волною кровь отлила от головы к ногам.
Курносый схватил деревянную тарелку со стола, стал колотить в неё кулаком:
— Идем, идем, шага-ем! Идем, идем, шагаем!
— Шагаем, шагаем! — вторил рыжебородый.
— Тяжко… — простонал Илейка, закрыв глаза и запрокинув голову.
— Идем, идем, идем! — продолжали вопить и кривляться калики, но их не слышал Илейка. «Иди!»— выдохнул кто-то невидимый, может быть, тот ночной гость.
— Иди, иди! — захлебывался слюной курносый.
— Иду! — отчаялся Илейка, бросил печь и расставил руки. К ногам будто камни привязаны. Всего несколько шагов до порога, но каждый шаг — подвиг.
— Здесь они, здесь твои ноги, чадушко! Возьми их!
Илейка пошел — медленно, напряженно, как по трясине. Калика торжествовал.
Где он обучился этому колдовству? На каких молочайных дорогах, в каких землях? И что они еще могли сделать, такие неказистые, в нелепых греческих шапках. Грибы грибами, вылезли небось из-под гнилого пня, пропахли плесенью и пошли смущать людей.
Илья подошел к двери, нагнулся, чтобы поднять ноги коршуна, но курносый выхватил их из-под самого носа и звал, дразнил:
— Здесь они, чадушко, здесь! Ходи сюда, ходи на солнышко. Шагай смело, не оглядывайся. Оглянешься — смерть примешь. Глотни-ка весеннего духа!
Курная изба осталась позади, Илья увидел обновленный мир. Зажмурил красные от печного дыма глаза. Снова светило солнце, горячило кровь. Мелко брызгал слепой дождик, не оставлял кругов в луже, от мокрых заборов поднимался парок. Летели черные рати скворцов, и небосвод, казалось, раскалывался от их пронзительных и радостных криков. Капризничали птенцы в кубышке на калине, его калине! Одетая нежным пухом зелени, такая старая и такая молодая, она что-то ему шепнула. Взголосил петух — и пошла перекличка по всей большой русском земле. «Жив, жив», — кричали воробьи. «Вштал, вштал», — по-старушечьи шамкала трава под ногами, камешек катился к ногам: «Здоровый, здоровый!»
«Что? Что вам? — хотелось закричать Илейке. — Чему вы радуетесь, глупые птахи и травинки. Я всегда был такой, я всегда был такой, медведь вас поломай! Глядите: вот я стою, вот я шагаю к вам навстречу, не бойтесь меня — ползите, бегите, летите, черные и пузатые, неуклюжие животинки. Я всегда был такой…»
Но Илейка не проронил ни слова, он только виновато улыбался.
Одолень-трава цвела
В лугах барвинок и сурепка зацвели. Хлопья белой кашкп запорошили яр, из леса тянуло сладковатым запахом прелой листвы, молодой хвоёй. Весенний дух волнами прокатывался над селом Карачаровом, густой и опьяняющий, он заставлял сердце прыгать от радости. Солнце стояло высоко, и оттого Муром вдали казался низким, неказистым.
Илейка вышел за околицу, но тропинке направился к лесу, где корчевали пни, готовя место под пашню, его родители. Шел, опираясь на тяжелую палку, и она ос та в- лила в ныли неглубокие ямки. Иногда оглядывался, приложив к глазам руку, смотрел в сторону Мурома, куда вчера поутру ушли калики. Поднялись, взяли посохи н ушли, пропали из виду, как будто их и не было никогда. Радость Пленки не утихала. Летел ли голубь, белым платком трепеща на ветру, ящерица ли шмыгала в траву — все находило приют в душе, каждую травнику видел и радовался ей. Смешно — когда-то хвастался баню поднять. Теперь охватывал взглядом холмы и мысленно подбрасывал их, как тряпичные мячики. Остановился передохнуть, опираясь на палку, и снова пошел, все убыстряя шаг. Так бы идти всю жизнь. Бродяжкой ли бездомным или вырядившись скоморохом, потешать праздный люд на торговищах. Нет у него ни коня, ни меча.
Навстречу пылил небольшой отряд всадников. Кони холеные, тонконогие, так и прядают ушами. Подъехали. Илейка поднял голову и вздрогнул: узнал боярина Шарапа. Но как изменился боярин за эти годы: оплыл, поседел, лицо красное — лягушка, напившаяся крови, да и только. Он сидел на красивом иноходце, в камлотовом кафтане и сапогах из тисненой кожи; к луке седла была привязана остромордая, с желтыми клыками голова кабана. Рядом ехал Ратко, возмужавший, плечистый, в шапке, шитой серебряными репьями. П на коне попона серебром оторочена. В руках у боярича была длинная рогатина, за плечами лук и пустой колчан на боку. Охотников сопровождало человек пять или шесть верхоконных холопов. Шарап натянул поводья, остановил коня. Остановился и Илейка. Боярин смерил его взглядом.
— Ты? — спросил, крутнув седеющий ус.
— Я, — ответил Илейка.
Ратко отвернулся.
— Поберегись! — бросил боярин.
Пленка но шелохнулся, рассматривая широченный в узорах наконечник рогатины Ратко. Шарап выхватил ее из рук сына, направил в грудь Илейки.
— Прочь с дороги! — потребовал он.
Илейка схватил рогатину за древко, отвел в сторону. Будто кто толкнул его в спину — пошел сквозь отряд. Конь под Ратко шарахнулся. Холопы растерянно уступили дорогу. Сбитый с толку, боярин сопел и кусал ус, но коня не повернул. Ехал, мрачнел, все больше наливался кровью. Ратко задрал голову в небо и смотрел, как воронья стая гнала и била орла. Со всех сторон налетали, не давали опомниться.
Илейка зашагал быстрее. Внизу чернел лес, белели валуны, словно черепа великанов, невесть когда погибших в битве. Тянуло гарью. Густой пахучий чад поднимался над лесом.
Мать с отцом сидели под тонкой, что лучина, березой и обедали — запивали репным квасом куски обветренного хлеба. Два дня уже не были старики дома, отбывали барщину и готовили нал, пашенка их давно поистощилась. Они сидели спиной к Илейке, и он видел мокрую от пота рубаху отца. Здесь начинался пал, скрываясь в лесной чащобе — путанице обуглившихся ветвей, щепы, выкорчеванных пней и дымящихся стволов. Черно, грустно глядел на Илейку пал. Молча сидели под сиротливой березкой родители. Мать собирала крошки в подол, батюшка звучно жевал и двигал кадыком, когда прикладывался к кувшину. Кувшин был старый, с отбитой ручкой.
Боясь зашуметь, Илейка подошел ближе. В траве блеснул топор. Он поднял его и со всего размаху ударил в пень. По самый обух вошло в него широкое, полумесяцем, лезвие. Илейка спрятался за ствол дерева. Отец вскочил, огляделся, повернула голову и мать. Как они обрадуются, увидев его на ногах! Отец не сел. Постояв немного и прислушавшись к тихому говору леса и кукушкиной погудке, он стал искать в траве топор.
— Что за переплутни? — ругнулся. — Куда девалась секира? Уж не стащил ли кто?
— Кому же стащить ее? — отозвалась мать.
— Мало кому, хотя бы лешему… Я за эту секиру годовалую телку возьму.