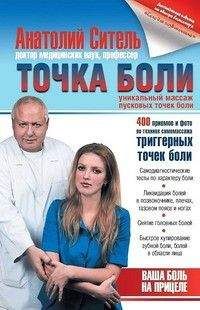Анатолий Загорный - Легенда о ретивом сердце
Илейка смотрел на них с недоумением, они не были похожи на юродивых и подвижников новой веры, каких немало проходило через село.
— Тут никого нет, — заметил курносый.
— Видно, нет, — согласился другой, — должно, в воле…
— А не пошарить ли нам под лавками, авось где кадка стоит?
— Грех! Заповедь помнишь? «Не укради».
— В другом месте сказано: «Укради для господа своего, коли нужно». Сначала покличем. Ау! Есть кто в избе?
— Есть! — ответил Илейка.
Калики притихли и долго шептались. Наконец умильный голос протянул:
— Кваску бы нам. бедным страничкам, испить, глотки запалились…
— Добро, страннички, идите в избу, — пригласил Илья. — И встретил бы вас, и в погребец пошел, да не могу. Сидень я — ноги не ходят.
Смутная надежда зародилась в душе — что-то было в каликах, сколько верст, поди, отмахали, пыль чужой стороны принесли на шапках.
— Не ходят, так пойдут! — обронил курносы й.
Калики снова коротко пошушукались и через минуту ввалились в избу, воровато зашмыгали глазами по углам.
— Ты один небось?
— Один, странники, один у отца с матерью.
Получив ответ, нежданные гости прислонили к стене посохи, сбросили сумы с плеч, распустили пояса, сняли с ног пыльные калиги (*род кожаной обуви, отчего и происходит русское «калика»). Кислый дух бил в нос Илейки, он смотрел на странников с любопытством и ожиданием. А те, казалось, не замечали его и вели себя как дома. С наслаждением вытянув ноги, шевелили пальцами. Отдохнув немного, курносый вышел в сени, оттуда во двор.
Вернулся, держа в руках жбан с квасом. Поставил его на стол, и они стали по очереди прикладываться.
— Отнимай у меня, отнимай! — сказал курносый; в глазах его бес сидел.
— Зачем? — удивился рыжебородый. — Пей, покуда дно не блеснет.
— Дурень, квас оскомистый, а так слаще! Отнимай! Вот тебе кукиш, что хочешь, то купишь…
Они стали рвать жбан из рук друг друга, плескать квас на пол. Курносый царапнул шею товарища медвежьим когтем, но тот даже не почувствовал. Выпил все до дна, поставил жбан на пол и пинком покатил его через всю избу в угол. Шумно отдувались, будто хотели поднять ветер, как какие-нибудь лопари. Поглаживали животы, щурили довольно глаза и потягивались. Курносый снова пошлепал босыми ногами во двор и принес охапку зеленого лука. Они уселись на лавку, стали молча жевать.
— Хождение огородины по лукам, — хихикнул курносый.
— Молчи, нечестивец, — оборвал его товарищ. — Или в святую троицу не веришь?
— Верю, — снова хихикнул курносый. — Три святых дуба, что в Старой Руссе, в Леванидовом урочище.
— Не стану делить трапезы с поганым, тьфу! Чума болотная! Загради указательным перстом уста свои богохульные.
Но тот не унимался. Поднял голову, подвигал нижней челюстью и захохотал, толкнув локтем рыжебородого;
— Гляди-кось — бог Саваоф! Как важно восседает.
— Не кощунствуй, чертов бродяжка! Какой же это бог с такой бороденкой? Настоящий бог восседает на семи облаках, над головой его благостное сияние и серафимы летают светлокрылые.
— Кто же это? Эй, чадушко, ты кто?
— Илейка я, сын Иванов.
— Почто на печи сохнешь поленом, сын Ивана, гляди, на лучину пощиплют…
— Нездоров я — ноги не ходят, — настойчиво повторил Илья, не сводя с калик пристального взгляда.
— Будут ходить, — хитро стрельнул глазами рыжебородый. — Что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои» или «встань и ходи»? Так, чадушко, повествует Евангелие. — Илейка сделал невольное движение, и, заметив это, странник продолжал: — «И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой»…
— Кто встал? — выдохнул Илейка судорожно. Отчего-то сперло в груди.
Рыжебородый усмехнулся, довольный тем, что Илейка пошел на приманку, погладил пестрое крылышко на шапке, надулся:
— «И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая…»
— Неужто стала? — открыл рот Илейка, подумал с минуту, даже головой тряхнул — уж не смеются ли над ним странники? Перед глазами вставало что-то давно забытое, светлое и доброе.
Рыжебородый не сводил с него взгляда. Он внутренне торжествовал и не спешил, как не спешит рыбак подсекать, пока рыба не заглотнет наживу. Наугад выбрал стих:
— «И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Исус сказал: «Оставьте, довольно», — и, коснувшись уха его, исцелил его».
— Враки! — вдруг захохотал курносый, сплюнул на пол и растер ногой. — Ежели б он содеял такое при народе, его не потащили бы в дом первосвященника! А то ведь народ потащил. Все враки!
— Богохульствуешь, бродяжка! Усумняшася! Не слушай его, сын Ивана, рожа у него, как у той, что с косою ходит, да и душа погублена — прежде скоморохом был, в голенную кость дул, в бубны стучал, козлом блеял и в бесовских скаканиях усердствовал.
— А ты, а ты?! — подскочил курносый. — Знаю тебя — раньше волхвом был в Новгороде, покуда не крестил вас Путята огнем, а другой… — калика прервал себя на полуслове, одним прыжком подскочил к окошку, припав к нему, стал что-то высматривать.
— Прошлое, бродяжка, прошлое! Не тронь прошлое. Я грехи искупил, крестился и в святых землях бывал, гроб господен лобызал.
— То-то, — зло продолжал, не отрываясь от окна, калика, — из волхвов да в пресвитеры норовишь. Журавли хоть за море летают, а все «курлы».
Илейка глядел на них во все глаза и дивился: никогда он не видел таких скорых на слово людей. Сразу видать — бывалые и книжную премудрость одолели.
— Сказками смущаешь сидня этого. Чудо свершил, говоришь? Вот я тебе покажу чудо, каких не бывало за морем!
Калика сплюнул и вышел. Минуты две его не было видно, потом замаячила в окошке сутулая спина. Постоял немного и, остерегаясь кого-то, перебежал дорогу, лег под частокол. Накрыл лицо шапкой, притворился спящим. Косою молнией ударил коршун, затрепыхал крыльями и взмыл. Только тогда Илейка заметил в руках калики кусок мяса. Что это? Другой раз мелькнул коршун, не достав добычи. Калика не шевелился. Смутно стало на душе Илейки. Кто они? От каких берегов? И, словно угадав его мысли, рыжебородый сказал:
— Мы от неведомых людей. Идем-идем — покатимся, покатимся — затеряемся…
Осклабился, заглянул в окно:
— Ах, беса тешит, неразумный язычник! Как ловко прикинулся — только не смердит.
Коршун долго кружил, так долго, что у Илейки шею заломило. Потом вдруг — бац! Камнем упала птица на грудь калики, а тот только того и ждал. Мигом вскочил, вцепился в нее руками, скрутил голову набок, встряхнул. Калика приплясывал на мосте, шлепал босыми узловатыми ногами. Он откусил клюв и положил его за пазуху.
— Ах, нечестивец, ах, пес! — качал головой рыжебородый. — Божью тварь жизни лишил. Кровожадный волчище!
Калика вошел в избу, подбрасывая на ладони окровавленные ноги птицы, сказал Илье:
— Видал? Вот они — твои ноги!
Торжествующе покосился на товарища:
— Я отнял их у нее для тебя, чадушко. Видишь, какие крепкие, не согнешь. И у тебя будут такие же. Веришь ли?
Илейка заколебался, не зная, что ответить. Он рот открыл от изумления. Было страшно и весело, как тогда, когда скатывался по обледенелому бревну.
— Верю! — смущенно прошептал он.
Чувствовал себя сбитым с толку, все происходило как во сне: нелепые фигуры калик, их непонятные речи и все-все.
— Верь! — твердо сказал курносый, наливая из своей фляги в глиняную кружку. Поднес Илье: — Пей! А с третьего раза восстанешь и пойдешь.
Нельзя было не повиноваться ему — столько в голосе странника было могучей скрытой силы. Притих и рыжебородый, во все глаза глядел на Илейку, На лбу Илейки выступили крупные капли пота, перехватило дух — кто мог поймать коршуна голыми руками, тот мог все, Илья поверил.
— Эти ноги кладу на пороге, — шагнул калика, — восстань, человек, забери их навек. Пей же, чадушко! — вдруг закричал он так, что Илейка вздрогнул от неожиданности. — Ней, не сомневайся! Пей во имя бога истинного — Перуна-громовержца! Пей, чтоб тебя… Живую воду пей! Никто не даст тебе ее!
Рыжебородый только ахнул и стал креститься.
Илейка послушно хлебнул влаги, и она не показалась ему обыкновенной дождевой водой — обожгла горло и рот, загорелась внутри, словно крепчайший мед.
Снова забулькала живая вода в кружку, калика протянул ее Илейке и, отвернувшись в угол, зашептал что-то скороговоркой, иногда только мощно выдыхая слова:
— Во имя твое, великий Перуне, пьется чаша сия, полная живой воды, которой ты окропляешь луга и поля, леса и степи, наполняешь реки и жизнь даешь всякому злаку! Даруй же хождение сыну Иванову! Пей! — не поворачиваясь, потребовал курносый и встал на пороге.
Илейка второй раз припал к кружке, сделал несколько больших глотков. И будто бы снова в дальних камышах вскрикнула птица радости — Сирин.