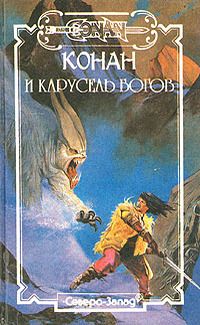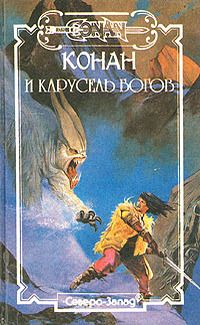Василий Афонин - Вечера
Значит, гостил я у тещи. Жена, к удивлению моему, вела себя здесь иначе, чем дома. Плитку, утюг, свет выключала всегда. Не глядя на свое положение, старалась помочь матери, хотя бы помыть посуду, и все это без материных просьб и моих напоминаний. Была ласкова и делала все, чтобы мне в гостях понравилось. Побыли мы, сколько позволяло время, простились и уехали к себе.
А потом родилась у нас дочь. Начались пеленки, стирка, варка, сон, прогулки, опять сон, вызов врача, охи, ахи, опасения, всякая канитель. Декретный отпуск жены закончился, она продлила его на год, закончился и этот, мы стали думать, что делать. О том, чтобы в таком возрасте отдавать девочку в ясли, не могло быть и речи. Я звал тещу, она отказалась приехать, говоря, что без нее молодые пропадут. И верно, без нее они не могли прожить и дня. Жена тогда уволилась и сделалась домашней хозяйкой. Она заметно изменилась внешне: стала дородной женщиной, изменилась походка, манера говорить, изменился даже голос. Она стала еще медлительнее в движениях и все хотела спать, все зевала.
— Ты что, не выспалась опять? — спрашивал я ее. Она сердилась, считая это издевкой. Увлечения мои были забыты, я помогал жене по дому, не успевая просматривать даже газеты. Книг не читал…
Видно было, как день ото дня становилась жена все белее равнодушной ко всему, что называлось нашей семейной жизнью, забывая делать даже самое необходимое. Раньше, в первые месяцы, по пятницам всегда затевала она после обеда стирку, в субботу, позавтракав, начинали мы уборку квартиры: снимали всюду пыль, вытряхивали на улице ковер, половики; по полу у нас расстелены были пестрые деревенские половики — подарок моей матери. Меняли постельное белье, купались, и вечером, закончив все, садились к телевизору или читали книжки, помня, что завтра долгий свободный день — воскресенье. Теперь я неделями спал на одной и той же простыне, белье в ванной комнате лежало горой, пол был не мыт, паутину заметил я вдруг в углу большой комнаты…
— Ты постирала хотя бы, — говорил я неуверенно. — Белья скопилось.
— Все? — спрашивала она, глядя прямо в лицо мне. — Дал наряд?
Она и на себя подолгу не стирала. Поносит какое-то время платье или кофту с юбкой, снимет, наденет чистое. Когда чистая одежда заканчивается, она берет из кучи платье, что посвежее, погладит и носит опять. Утюг у нас почему-то стоял в кухне на подоконнике, а чаще всего — под столом. Садясь есть, я обязательно задевал утюг, и он падал мне на ноги. Возвратясь с улицы, жена опускала сумочку на пол прямо в прихожей, перчатки и шапку — она носила вязаные шапки — в одну сторону, плащ или пальто — в другую. Сапоги валялись в прихожей, носки она постоянно оставляла в сапогах, влажные носки, вместо того чтобы прополоскать и просушить их. Вначале в такие минуты я пристально смотрел на жену, в следующий раз говорил какие-то необходимые слова, а потом уже просто ходил следом, клал сумочку на свое место, шапку и перчатки на свое, плащ вешал в платяной шкаф, ставил в прихожей к стенке сапоги, вынув и постирав носки. Иногда я садился рядом и спокойно, не сердясь совсем, пытался разговорить ее, мне необходимо было знать, почему же мы так живем. Очень хотел я знать это.
— Послушай, что с тобой происходит? — спрашивал я жену. — Отчего ты так странно ведешь себя? Ответь, пожалуйста. Что тебе мешает?
— Я света белого не вижу, — сразу брала жена тон. — Должна же у меня быть хоть какая-то радость в жизни?
Или:
— У меня ребенок на руках, разве ты не видишь? Я измучилась вконец.
— Хорошо, — продолжал я, — тогда скажи на милость, как ты себе представляешь семейную жизнь?
— Ну, уж совсем не так, как у нас! — вскидывалась жена.
— Тогда как же?
— Не знаю, но только не так. Ну, что это за жизнь — сам посуди! Что это за жизнь!..
Тут я начинал стыдливо и тихо говорить о том, что все семьи, в общем-то, живут одинаково: в нашем доме, на нашей улице, в нашем городе, в других города и селах. С незначительной разницей. У всех дети, работа, заботы, будни, праздники и все остальное, что бывает в человеческой жизни. Ты это видишь и прекрасно понимаешь сама. Понимаешь ведь?!
— Вот уж не понимаю, почему я должна жить так, как живут все, — насмешливо спрашивала жена, и я терялся, не в силах ответить на этот глупый во многом и злой вопрос.
— А если бы у нас было несколько детей, — сказал я как-то на очередное ее возражение. — Четверо детей, допустим. Тогда как?!
— Ну вот еще чего не хватало, — фыркнула жена. — Тут с одним голова кругом идет, а то… Нет, хватит. С меня и этого вполне достаточно. Это ты по своей семье судишь, знаю…
Ребенок отнимал много времени, это я видел. Но он был спокойным, ночами не кричал, и редко когда приходилось вставать ночью, менять пеленки. Но ведь жена не работала, по магазинам ходил я, квартиру по субботам убирал я, стиркой теперь занимался я, гулял с ребенком, делал десятки других мелких дел.
Толкая перед собой коляску где-нибудь в тихом переулке, перебирая день за днем теперешнюю свою жизнь, теряясь в догадках, всегда вспоминал свою мать и как жили мы на Шегарке. Нас было шестеро детей, отец пришел с войны искалеченным, и каково доставалось матери. Она подымалась с зарей и шла на ферму доить коров, затем баб посылали звеном до вечера косить или жать, после вечерней дойки скирдовать солому, а то на ток, подрабатывать зерно. А ведь, кроме всего этого, было какое-то свое хозяйство, требовавшее времени, огород. Были мы, дети. Нас надо было одевать, обувать, кормить, учить. Воспитывать, как говорят сейчас. И несмотря на занятость такую матери и нищету, в какой мы пребывали, мы всегда были пострижены, помыты, прибраны. Холщовые в войну и после, потом из самой простой и дешевой материи наши штаны и рубахи были постираны, зашиты-заштопаны, прокатаны рубелем и каталкой. В четырехклассной деревенской школе и в соседней семилетке, куда мы ходили за шесть верст, живя по неделям в интернате, нас ставили в пример, хваля за аккуратность и чистоту в одежде. И когда матери говорили об этом на родительских собраниях, она краснела, опускала голову и начинала плакать. Такое у меня было детство.
Всякий раз после таких воспоминаний собирался всерьез поговорить с женой и всякий раз откладывал: сказанная женой фраза о радости в жизни измучила меня совершенно.
Но однажды я не выдержал, затеял разговор и тут же пожалел об этом. Вернувшись из командировки, увидел я, что в квартире, по обыкновению, не прибрано: трехнедельная пыль лежала на мебели, кровать жены — спали мы давно уже порознь — не застелена (кровать за ней каждое утро застилал я), пол не мыт, и белья грязного накопилось — не постираешь и в полдня. Сама жена сидела на кухне, читала газету. Отложила газету, перешла в комнату.
— Слушай, — сказал я в сердцах, — ну что же ты на самом деле, а?! Такая молодая, здоровая. Да у тебя бы горело все в руках. Посмотри на себя, на тебе… пахать можно, а ты спишь на ходу. Ты что, в квартире прибрать не могла?! Меня дожидаешься! Как не стыдно только, ей-богу! В конюшне чище, чем у нас!..
Если раньше во время ссор она плакала, звала мать, уезжать собиралась: схватит, что попадет под руку, и — за дверь. Дверью непременно ударит, спустится в подъезд или отойдет куда-нибудь от дома в темноту. Я в это время дверь закрою, поднимаю разбросанное. Через полчаса примерно слышно — идет обратно, стучится. Теперь она уже не плакала и к матери не собиралась. Она обычно оказывалась на кухне, руки ее двигались, ища чего-то: она могла просто смахнуть со стола посуду — таким образом бессчетно разбито было тарелок и чайных чашек. Она могла бросить на пол кастрюлю или чайник, погнуть, а то и сломать — я выправлял потом погнутое, выбрасывал сломанное, — ударить сковородкой о стену, на стене оставались вмятины. Признаться, я пугался этих минут.
— Подонок! — кричала она. — Мразь! Ты мне всю жизнь изуродовал! Лучше бы я в Москве по углам скиталась, чем так! Убирайся вон, никто не держит! (Один раз я сказал, что, пожалуй, лучше уйти мне от такой жизни.) Ненавиж-жу-у! И зачем я только согласилась?! Дура! Дура! Мамочка моя! О-о!
Дочь, глядя на нас, начинала реветь. Она уже чувствовала, что что-то не так. Плача, она бегала от меня к матери и обратно.
А я смотрел на обезображенное криком и злостью лицо жены и думал: «Гос-споди, в своем ли она уме?! И зачем я только затеял разговор этот». Раньше еще, до того как родилась дочь, да и после, до поры, пока не стала ходить и разговаривать, несколько раз говорил я себе: «Разведусь. Э-э, что за жизнь. Жил один до тридцати шести лет, даст бог, до семидесяти доживу. Перенесу все: позор, разговоры, сплетни. Оставлю все ей и уеду на Шегарку. Буду платить алименты, буду приезжать проведать дочь, летом к себе забирать, а жена — как хочет. Работу свою знаю, главбухом в леспромхоз пойду, в любое другое хозяйство — не пропаду небось. Хоть отдохну от визга, сосредоточусь, подумаю».