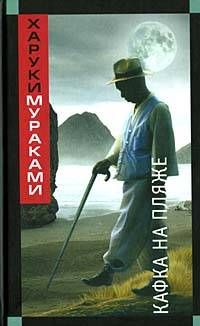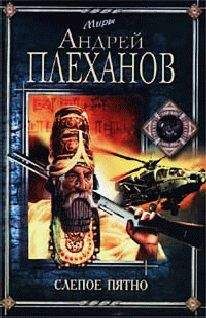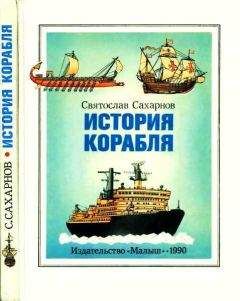Галина Докса - Мизери
В одну из таких разлук Игорь женился.
В другую он тяжело заболел и, выйдя из госпиталя, где провалялся зиму, — опухший, раздувшийся от неумеренных доз гормональных препаратов, поставивших его на ноги, — вдруг запил, завел двух любовниц (молоденькую и постарше, и каждая знала, скрывая свое знание от него, о том, что является дублем), перестал жить с женой (женщиной–ровесницей, отдававшей все запасы тепла, сохраненные ей несчастным браком, болезненному мальчику, сыну Игоря), задумался о разводе, но скоро отмел эту мысль, так как жена, не требуя многого (в отличие от любовниц), в чем–то скрашивала его жизнь, терявшую вкус и цвет в тот самый день, как они расставались со Светой.
Разлуки… Игорь потерял им счет, но помнил каждую — не памятью сознания, а той памятью, какой обладает наше детство, способное по запаху вспомнить себя на пороге старости, даже смерти, — даже по блику, отброшенному на стену стеклом открывающегося окна, способен умирающий узнать час и миг своего младенчества, когда, еще не умея говорить и понимать, он понял сам и улыбнулся гордо, что вот это, блеснувшее издалека и разлетевшееся по стене бесшумной погремушкой световых пятен, есть солнце и жизнь, пусть щекочет и плавит щеку, пусть зажмуривает глаза и обманывает призрачной пляской… «Дай! — улыбнется умирающий, забывший, не живший. — Дай!..»
И шарит рука по шершавой стене, и вспоминает, и помнит…
Разлука. Вечная. Навсегда.
Существовало нечто в каждой из разлук, пережитых ими (какое–то плотное ядро в вязкой мякоти недель и месяцев, видимое ясно, как виноградная косточка, если ягоду рассматривать на свет), — нечто случайное и вместе с тем неизбежное, некий подвижный, на них отрабатываемый закон, по которому рано или поздно они опять сходились на перекрестках города и лицо Светы, дрогнув, возвращалось на место, легко заполняя пустоту, сбереженную для него. Брызгал сок, виноградная сладость таяла на языке, проглатывалась косточка, и они забывали причину, склонившую их к разлуке, забывали и случай, сведший их в неизбежном настоящем; они не помнили, кто из них сделал тот первый, уверенный шаг из толпы, двумя встречными потоками текущей по проспекту, — шаг на невидимую, почти несуществующую тропинку посредине тротуара, на границе потоков, совершенно безлюдную, — шаг, после которого оставалось совершить немногое: взяться за руки и уходить.
Как–то года через два после их первой встречи и месяца через два после первого разрыва (бесповоротного, как казалось им) Игорь поднимался бегом по лестнице эскалатора, левой рукой отмечая каждый свой шаг на ползущем бортике. Света спускалась навстречу по смежной лестнице, как он, считая шаги мимолетными прикосновениями пальцев к резине. Он узнал ее по руке и остановился, бросив взгляд через плечо. Она пошла медленнее, помешкала, отступила в правый, неподвижный ряд, давая дорогу бегущим, оглянулась и улыбнулась искательно как–то, но весело, даже шутливо, и сердце его, стучавшее рывками, через силу, успокоилось мгновенно, словно маятник сбившихся с ходу часов, остановленный объятием ладони, и пошло стучать дальше, двигая время ритмично и легко, радостно и свободно, точно, — так как рука, прежде чем толкнуть его, установила стрелки на правильных цифрах.
Он выскочил из павильона метро, выбрал несколько светлых роз с прозрачными лепестками и влажными длинными стеблями (он исколол себе руки, выбирая, но только отмахнулся, когда продавец предложил завернуть цветы в газету), схватил такси и встретил ее на выходе с эскалатора.
Молча вытянул он ее за рукав из толпы и заглянул, хмурясь, в улыбающиеся глаза…
И долго, целую минуту, стояли они в тупичке меж стеклянных дверей, передавая букет из рук в руки, вспоминая слова, дорогие обоим, но не произнося их. Долго — пока она не взяла его за руку.
Розы роняли лепестки на асфальт. Они не дожили до утра. Утром Света собрала осыпавшийся цвет и разложила на солнечном подоконнике.
«Будем пить чай, — сказала она. — Зимой. Желтые розы долго не стоят. Когда мы увидимся?»
«Когда мы увидимся?» — спрашивала она, держа шпильки в зубах, отвернувшись от зеркала.
«Когда мы увидимся?» — взглядывая на календарь наручных часов, раздумывал он и набирал ее номер.
«Когда мы увидимся?» — хором спросили они друг друга на платформе Московского вокзала, покинув вагон, домчавший их так преступно быстро сюда, на север, — из приморского игрушечного городка, где они не успели, как ни старались, устать друг от друга…
«Я позвоню…»
«Прости, я не могу, болеет мама…»
«Я позвоню…»
«Когда мы увидимся?..»
«Когда мы увидимся?»
— Никогда, — бросала она, но не верила себе.
— Никогда, — решал он, забывая ее лицо без улыбки.
— Никогда, — сухо ответила Света на его небрежный вопрос, не подумывает ли она о ребенке. — Я не могу иметь детей. Будь спокоен.
И он был спокоен с ней. Только… Если она улыбалась…
Ухаживая за умирающей матерью, Света улыбалась ей одной. Последние же осень и зиму улыбка почти не сходила с ее губ. Увидев эту улыбку впервые после годичной без малого разлуки, Игорь готов был заплакать. Света исхудала так, что узел на затылке оттягивал ей голову назад. Челка не скрывала морщин, а скулы пожелтели и стали прозрачными, как папиросная бумага. Казалось, прикоснись к ним, и раздастся легкий шорох. Но — удивительно! — он удивлялся так при всякой встрече, как бы далеко ни отстояла она от момента расставания: Света была моложе, чем год назад, когда, расставаясь с ним… возясь с замком задней дверцы его машины, а он сидел, не оборачиваясь, и все давил потухший окурок в пепельнице, а она сказала: «Никогда. Прости. У меня кончились силы. Я не хочу любить. Прости…»
В хрупкой, не совсем здоровой ее молодости находил Игорь источник вечной своей тяги к разрушению, к расщеплению чувства, проникавшего в него глубже и глубже; к растворению его в незначительных, на весах их отношений, но отягощенных последствиями непоправимыми поступках — вроде женитьбы «на скорую руку» или недолгой, разочаровавшей службы в армии в качестве военного переводчика (там он подхватил малярию, там впервые попробовал мечтать о совместной жизни со Светой, но и мечты не получались, так как Света, настоящая, ускользала от него, и невозможно было понять причину)…
И вместе с тем он знал (он никогда не ошибался в главном), что эта неумирающая молодость с пергаментной кожей на скулах была его свободой, его личным выбором, его и больше ничьей женщиной, и, думая обо всем этом в пустой тесноте автомобиля, всем весом надавив на руль, прижавшись к нему грудью (так что медленный бой сердца отзывался в рокоте мотора, работавшего на холостом ходу), думая о своей единственности и свободе, он терял, искал, находил и вновь терял, находил, ис…
Источник вечной тяги своей…
Так было и раньше. Было и раньше. Раньше. (Ньше. Ше.)
«Никогда, — сказала она неделю назад, закрывая за ним дверь. — Никогда больше». (Льше. Ше.)
Он все не мог поверить. Улыбка, отделившаяся от ее лица, как собственный вздох в темноте отделен от груди, проступала на его запястье пигментным пятном, плавала бликами в лобовом стекле автомобиля, тянулась длительной паузой меж двумя гудками в телефонной трубке, оставленной им до утра качаться на запутавшемся проводе. Он считал дни разлуки. Их было еще так мало, зимних этих, коротких дней. Увидев ее на крыльце школы, поймав взгляд ее, жалобный и беспощадный, он успокоился, выбросил розы на снег и забыл ее лицо.
Так было никогда больше.
PAST PERFECT
(ПРЕДПРОШЕДШЕЕ)
Было так, или не было, или было уже все равно.
В мае Игорь отправил семью в Крым. Мальчик проболел всю зиму и так измучил мать, что она все чаще стала заговаривать с мужем о необходимости сменить климат, уехать из Петербурга — совсем, совсем! — хоть на Украину, откуда была она родом и где жили ее родители, звавшие хоть в Крым, продав квартиру, бросив все, но только бы не слышать детского надсадного кашля, захлебывающегося слезами, только бы забыть номер детской неотложки, все бригады которой, наверное, перебывали у них за семь лет жизни ребенка.
Игорь, соглашаясь в душе, выставлял возражения экономического свойства. Петербург обеспечивал ему хороший, очень хороший заработок, какого не могла дать провинция.
Игорь служил переводчиком в русском филиале крупной американской компании. Это позволяло ему иметь многое из того, чего не могло позволить себе большинство: фрукты ребенку, импортное лекарство, платного врача профессорского звания, отдых с семьей в любой точке земного шара и неработающую жену, зависевшую от него так прочно, что, люби он ее, даже при больном ребенке она, наверное, могла бы считаться счастливейшей из женщин.