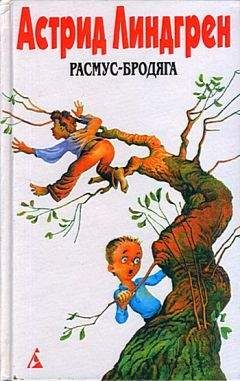Василий Аксенов - Свияжск
«Вы фотографировали боевое соединение», — сказал физручке лейтенант. Он был в куцем тесноватом кительке, мал ростом, но горбился и сгибал плечи словно высокий человек.
«Допустим», — усмехнулась физручка и тряхнула гривой выгоревших волос. Она была на полголовы выше офицера.
Он смотрел на нее с кривой улыбочкой, как бы давая ей этой улыбочкой понять, что не видит в ней ничего, кроме годной для употребления девки, то есть «станка», но, увы, улыбочка эта выдавала его с головой, она явно указывала, что ему по какой-то неведомой табели о рангах даже и мечтать не приходится о такой особе, как наша блистательная физручка.
«Запрещено», — выдавил он из себя.
«Трижды ха-ха, — сказала физручка — В „Красной Татарии” на днях был снимок этих кораблей».
Тут воцарилась какая-то странная пауза, и вдруг лейтенант стал быстро, профузно краснеть, фуражечка ему сделалась как бы мала, из-под нее потекли струи пота, и наконец обнаружилась причина стыда — все заметили, как брюки лейтенанта стремительно растягиваются неким странным выпячиванием, которое в конце концов приобрело форму основательного колышка, устремленного в сторону Лидии. Офицерик весь вогнулся внутрь, чтобы сгладить это выпячивание, удалить его из центра композиции, но ничего не получалось, то ли брючки были тесноваты, то ли предмет великоват.
Мы некоторое время молчали, понимая, что происходит что-то неловкое, но относя это к фотоаппарату, к съемке военного могущества нашей реки, а вовсе не к постыдному колышку, торчащему в направлении пионерского отряда. Первыми прыснули наши девчонки, потом гоготнули матросы, потом и мы, мальчишки, сообразили что к чему. Физручка победительно сверкала дейнековской улыбкой.
«Смирно! — пискнул офицерик своим матросам и совсем уже побагровел. — Я, конечно, извиняюсь, девушка… товарищ вожатый… но мне приказано изъять у вас аппаратуру… или… или….»
Он уже и не смотрел на физручку, уставился куда-то вбок и вниз, вроде бы на собственный каблук, но «предмет», однако, продолжал победоносно торчать, странное неуместное могущество на фоне хилой фигурки, впрочем, было в этом некоторое соответствие с тяжелым вооружением мелко сидящих мониторов,
«Или пленку засветить? — Лидия презрительно оттопырила губу. — Нет, уж, дудки! Берите лейку, а о дальнейшем…»
«О дальнейшем, может быть, в штабе флотилии?..» — с робкой радостью вопросил лейтенантик.
«Вот именно! Завтра же! Кто у вас главный? Контр-адмирал Пузов? Да мы с его дочкой на одном курсе, к вашему сведению!»
Она швырнула лейку офицеру, словно королева пригоршню серебра в толпу.
«Ребята, за мной!»
«Завтра же… завтра же… — лепетал лейтенантик, — …в Зеленодольске… в штабе флотилии… уверен, что разберутся… я буду лично… ждать на пристани…»
«Трижды ха-ха!» — скомандовала физручка.
«Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха!» — бодро oтвeтcтвoвaл наш отряд, покидая поле престраннейшей этой битвы.
Валевич гулко хохотал в глубине московской телефонии, должно быть, все это и ему вспомнилось с достаточной яркостью.
— Помнишь, помнишь? — захлебывался он сквозь хохот, — Помнишь эту штуку?
— Еще бы не помнить, — отвечал я, и сердце мое наполнялось теплом и любовью к этому моему единственному другу, который кажется сам себе таким удачливым и сметливым и который на деле не кто иной, как толстый стареющий ребенок. Кто может быть ближе человека, с которым вы вместе по одному только слову или даже междометию отправляетесь в одно и то же место времени и пространства, на тридцать пять лет назад туда, где меж серых камней торчали кусты ежевики, а тропа уходила в заросли орешника, туда, где лента Волги то просветлялась, то замутнялась в зависимости от конфигурации пролетающих над нашей сирой родиной облаков.
Где существует этот момент, если он может иной раз так ярко, с такими подробностями возникать из небытия?
— В памяти, — важно поясняет мне Валевич. — В клетках нашего мозга.
— Валевич, ты знаешь, что такое память, что такое клетки мозга, что такое момент?
— Исследования продолжаются, — говорит он.
— А все-таки ты помнишь Свияжск?
— Церковь? — тихо спросил Валевич. — Конечно, помню.
— Яша, приезжай, — попросил я его. — Давай встретимся на углу возле табачного киоска. Со мной происходит нечто экстраординарное.
Далее из письма Елены Петровны Честново:
«…ирония заключалась в том, что наш дом помещался как раз напротив крайкома партии. В тот день, возвращаясь с занятий и приближаясь к дому, я заметила, что все ставни закрыты. Во дворе я увидела автомобиль Виктора Петровича. Что такое? В доме происходило нечто удивительное: горели свечи, висели образа, светилась в полумраке парчовая ряса отца Сергия (в обычное время он одевался очень серо, так как скрывался от религиозных преследований), слышался крик младенца.
Что, мама, спрашиваю я, с каких это пор в нашем доме крещальня? Как видите, Олег Антонович, в свои 15 лет я была комсомолкой и в достаточной степени осторожной. Тише, тише, говорит мне мама, не дай Бог, кто-нибудь узнает, нам всем тогда не сдобровать — крестят сына самого Антона Ильича! Вот тогда я увидела вас, Олег Антонович, в виде голенького младенца, и вашу крестную мать Евфимию, а крестным отцом был, как я уже говорила, мой обожаемый старший брат Виктор Петрович.
Когда обряд подошел к концу, мне поднесли младенца. Поцелуй, Леночка, это твой крестный братик. Я вас поцеловала несмотря на свою естественную комсомольскую неприязнь к церкви и тот стыд, который я всегда испытывала, думая о своем собственном крещении.
Представьте себе мои противоречия, Олег: вокруг кипит комсомольская жизнь, мы развиваем пятилетку, строим огромные самолеты, покоряем Север, пустыню, и вдруг твой брат, передовой человек, механик-чекист отдает дань религиозному мракобесию и даже втягивает в него подрастающее поколение, которому жить при социализме.
Такая я была дура, Олег, но к чести своей могу сказать, что у меня и мысли не появилось — пойти и донести, как могла бы сделать любая моя подруга, напротив, я против своей воли прониклась каким-то странным щемящим чувством и поцеловала этого ребенка со слезами на глазах…»
Наш так называемый микро-, а на самом деле огромный район показался мне в ту ночь каким-то необычным. Среди пугающего однообразия 16-этажных тысячеоконных блоков я вдруг увидел едва сквозящий, но все-таки явно существующий творческий замысел. Быть может, кто-то из этих бедняг-архитекторов, которые штампуют такие микрорайоны, сумел и сюда протащить что-то маленькое свое, вдохнуть и сюда пузырек живого духа, как-то слегка нетипично повернуть всю эту линию жутчайших жилищ, как-то соединить ее вон с тем холмом, чуть-чуть приподнять над другими вон ту башню, оставить вот этот хвост лесной зоны внутри квартала, кто знает — вдруг он смог представить себе на мгновение, что будет вот такая лунная ночь, пустота и одинокий, потрясенный чем-то своим человек с этой позиции у табачного киоска вдруг увидит его замысел, лицо его города с некоторой живинкой в глазах, с огоньком под аркой, с этим вот расположением теней, с луной, висящей меж двух комплексов и серебрящей верхушки лесопарка, в ночь полнолуния, в ночь Божьей Благодати.
Проехала машина спецслужбы, что подбирает по ночам «портвеешников». Потом проскочил к развороту автомобиль Валевича.
— Олег, — сказал Вадевич, — ну, хватит уж тебе. Ну, поехали к нам спать. Ну, давай мы тебя женим. Есть кандидатка. Ну, мобилизуйся, Шаток! Ну, хотя бы на финальную пульку мобилизуйся! Вот вчера ты на федерацию не пришел, а там мы сильный дали бой Подбелкину. Эта скотина и на тебя опять напал, опять на тебя телегу покатил, якобы ты снижаешь в своей статье прошлогодней ценность международных побед советского баскетбола, якобы ты вообще, не совсем… ну, в общем, мы ему дали по жопе… Ну, взъярись, Шаток! Ведь вам же в первый день с «Танками» играть! Только твоя банда и сможет выиграть у «Танков»! А потом я тебе обещаю все устроить — и путевку, и деньги, и попутчицу… поедешь в санаторий… ну…
— Яков, — сказал я ему, — меня сегодня Благодать осенила. Ну-ну, не дергайся, пожалуйста, все в порядке. Постарайся понять, я не могу выразить своих чувств словами… Ну, словом, я завязываю со спортом… Прости, но все наше дело кажется мне сейчас слегка нелепым, все наши так называемые победы, все эти страсти-мордасти вокруг простейшего предмета, кожаного шарика с воздухом внутри. Я попытаюсь, Яша, другую жизнь найти, не знаю, удастся ли…
— Да ведь вам же турне по Латинской Америке светит… — растерянно пробормотал большущий и толстый мой друг. Когда-то, в дремучие времена, когда баскетбол еще не был спортом гигантов, он играл в нашей команде центра, то есть «столба», то есть был самым высоким, а теперь еле до плеча достанет моему, скажем, Славке Сосину.