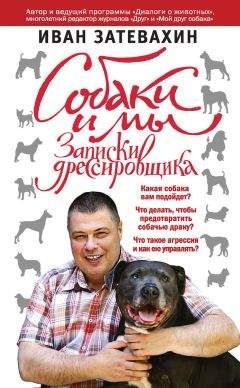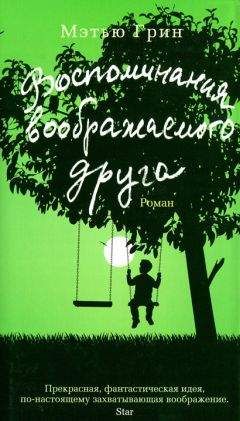Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
Женщйна резко повернулась, будто кто–то дернул ее сзади, попятилась, не спуская с незнакомца глаз, спиной толкнула калитку своего дома — на холсте он был желтым, — повернула ключ и больше не показывалась.
За неделю перед тем из больницы, что возле Искыра, по слухам, удрал сумасшедший, который любил рисовать…
Когда ему приходил на память этот случай, он улыбался и, выжимая на палитру холодные тона, старался притушить свои огненные гаммы. Все тонуло в зеленом и голубом, кое–где проглядывало розовое, серое. Но эта притушенность продолжалась лишь до того мгновения, пока на полотне не возникал оранжевый цвет. Он обжигал зелень деревьев, и те сморщивались, как тронутая огнем листва. На холст ложились все оттенки коричневого, вспыхивал кадмиево–красный, и, окажись рядом та женщина с клубком шерсти на коленях, она снова попятилась бы в испуге, заперлась на замок и спустила бы с цепи собаку.
Его навещала тогда другая женщина. Старушка соседка, которая жила тем, что шила свадебные головные уборы. От ее крохотной квартирки его отделяла только стена — ложась спать, художник слушал стрекотанье швейной машины.
У старушки было круглое личико с отвислыми щеками, подбородок походил на яичко. Сквозь тонкий слой пудры просвечивали лиловые тени под глазами, и от этого голубые глаза казались выцветшими, замутненными — впрочем, возможно, тому причиной было вечное сидение над шитьем. Она всегда носила белый кружевной воротничок и позолоченное пенсне на длинном черном шнурке… С утра до вечера колола она пальцы иголкой, плоила свадебные уборы, в субботу передавала их владелице модного салона — даме с лиловыми крашеными волосами, получала взамен несколько мелких банкнот и в понедельник опять садилась за работу.
Но зато воскресенье принадлежало ей целиком. Она читала книжки, перелистывала альбомы, рассматривала фотографии покойного супруга, перебирала снимки, сделанные когда–то в Ксанти, в ресторане на фоне оливковых деревьев («Вон та дама в длинном платье, с бокалом в руке — это я»), и прислушивалась к звукам в соседней комнате. Она знала: если насвистывает, значит, стоит за мольбертом, забыв все на свете. К полудню там воцарялась тишина. Тогда она наливала себе и соседу кофе и шла взглянуть, что он сегодня нарисовал.
Старушка любила запах красок, а ради человека, симпатичного ей своей воспитанностью и деликатностью, полюбила и его картины. Не все понимала в них, но сердцем чувствовала. И, взглянув на только что написанных маслом павлинов, в чьих распущенных веером хвостах повторились силуэты колоколен и мостов, говорила:
— Какие прекрасные минуты выпали тебе на долю, сосед…
Они пили кофе.
Павлины разгуливали по фантастическому своему миру, а старая женщина вспоминала Ксанти, переход через разлившуюся Месту в ту ночь, когда толпы беженцев устремились в Болгарию, и почему–то чаще всего — фонарь, привязанный к левой боковине телеги.
А художник смотрел на морщинистые руки этой милой старушки и думал о том, как мало приспособлены К жизни нежные и щедрые сердца…
Один его приятель, тоже художник, с которым они по вечерам ходили гулять по шоссе в сторону гор, писал всю жизнь только женские портреты. Хотя ему было за шестьдесят, он сохранил юношески бодрую походку и одевался с небрежной элегантностью артистичных натур: длинный темно–синий пиджак, серый жилет с металлическими пуговицами, брюки в коричнево–серую полоску, ботинки, к которым сто лет не прикасалась сапожная щетка, воротничок у рубашки протерт щетиной давно не бритой шеи.
Он был холост. Жил у старшей сестры. Житейская проза мало заботила его, суетность, корыстолюбие, эгоизм — все это он преодолел в себе. Быть может, высокий рост (а был он на две пяди выше окружающих) давал ему возможность посматривать на всех сверху вниз, яснее различать мелочность, легковесность, преходящесть того, что остальные. люди, захваченные водоворотом будней, продолжали так ценить. Он был хорош собой, с удлиненным загорелым лицом жнеца или садовода (жидкая, клинышком бородка еще больше удлиняла его). В бархатистости глаз, в плавных линиях тонкого, словно выписанного тончайшей кистью носа, в сосредоточенно–сжатых губах было что–то от фанатизма и сосредоточенности иконописных ликов.
Он писал только красивых женщин. Ангельская кротость была разлита в их глазах, в тени от длинных ресниц, в изгибе шеи, в алебастровых пальцах, державших цветок полевого мака или яблоко с такой нежностью, будто пальцы сотканы из воздуха. Глядя на эти портреты, любой подумал бы, что человек, их создавший, испытал неземное блаженство в плотских утехах, в обладании этими губами, этим телом, таким же округлым, упругим и благоуханным, как румяное яблоко в руке красавицы.
В действительности он ни разу в жизни не прикоснулся к женщине. Быть может, перенесенная в детстве болезнь или другая причина избавила его от тех греховных порывов, которым подвластны прочие смертные. В женской походке, в молодости, венчающей женщину ореолом, в прелести форм, притягательное трепетанье которых угадывается за складками платья и которые другого лишили бы рассудка, он видел только линии, краски и бескорыстно восхищался ими. Возможно, это чистое созерцание и позволяло ему видеть мир непорочным, изображать его на холсте таким, каким ему бы следовало быть. «Я воссоздаю не плоть, а душу! — сказал он, сходя на обочину, чтобы уступить дорогу мчавшейся навстречу машине. — Плоть тленна. А душа бессмертна». — «Однако плоть облекает душу, защищает ее от дождей и ветров… — шутливо возразил собеседник. — Кроме того, она дарит нам наслаждения, которых ничто другое подарить не может… Люблю падших ангелов. Тот, кто подавляет голос плоти, жесток не только к себе, но и к ближнему…»
Тут он осекся, сообразив, что эти слова могли задеть приятеля. Но тот сказал: «Дорогой мой друг, какой беспокойной была твоя жизнь. Расставанья. Одиночество. Потом, несмотря на полученный урок, опять погоня за женщинами, которые — ты заранее знаешь — бросят тебя… Сам усложняешь себе жизнь. Зачем? Ты рожден, чтобы посвятить себя кисти и краскам. В этом твое призвание. И одновременно божье проклятье. Разве эти волнения, я бы сказал, безумства плоти, не уводят тебя с прямого пути?»
Острая жиденькая бородка развевалась. Его собеседник, подвластный голосу плоти, смотрел на него и думал о своих жизненных неудачах… Да, он и впрямь жил беспокойно, даже, пожалуй, глупо, но такова уж натура. В отличие от своего приятеля он не мог предаваться лишь одному созерцанию, хотя оно, вероятно, приносит великие радости; не мог не видеть за яблоком — этим плодом, зачатым землею и небом, — лона женщины, чей ангельский взор устремлен на него, не мог не ощутить в изгибе ее губ ту судорогу, что сопровождает зарождение новой жизни… Он всю жизнь искал женщину, отдавал ей всего себя, насытившись, бежал от нее (чаще она его оставляла), а затем демоническая ее сила снова влекла его к себе…
Они поднялись на холм. Бородатый художник стоял на фоне вечернего неба — высокий, с развевающейся шевелюрой. Глядя на него, размышляя над его углубленной, чистой жизнью, его приятель сказал:
— Перебираю в памяти все, что мною пережито, и думаю: святой ты человек, а я дьявольское отродье…
— Помилуй, какой же я святой? Уж я–то себя знаю...
Я всего–навсего бедный, а может быть «несчастный», как полагаешь ты, служитель Прекрасного…
Иван Барбалов продолжал плести свою сеть. Было что–то трагическое в поблескивании его очков и в бесконечности нити, над которой склонялся этот тщедушный, трудолюбивый, как паук, человек.
Что он рассчитывал выловить этой сетью? Всю, какая есть, дунайскую рыбу, если он когда–нибудь вернется домой?.. Он не был жадным — зачем ему столько рыбы? Вероятно, куда больше порадовало бы его отражение прибрежной ивы в воде Дуная… А может быть, это непрестанное изнурительное занятие поддерживало в нем силы — вся его жизнь прошла в труде, и праздность разъест его, как плесень?
Не знаю уж, что побуждало его, но сеть все росла, и, когда он днем развешивал ее во дворе, она оплетала своей огромной паутиной все — деревья, траву, людей. И мне представлялось: вот–вот подплывет на лодке тот лодочник, который возьмется за край сети и замкнет круг. И тогда люди, что сидят сейчас в столовой за обедом (их вилки, наколов большие куски мяса, скребут по дну алюминиевых мисок), будут метаться в этой сети, стараясь оборвать нить, которая от воды стала крепче железа, а лодочник будет смотреть на них с холодной улыбкой…
Это было всего–навсего болезненное видение. По–прежнему светило солнце, холмы покоились в осенней неге, Дятел, опершись на пружинящий хвост, долбил дерево грецкого ореха. Люди выходили из столовой, вытирая ладонью губы, желтые от бараньего жира. Все дышало покоем. Даже сеть излучала тихое сияние. Только я один терзался неясной тревогой — должно быть, душа тосковала по умершему другу.