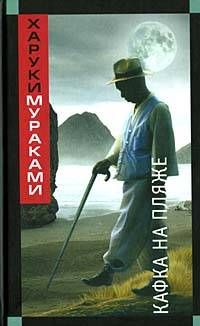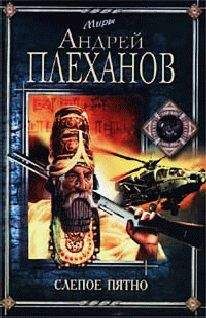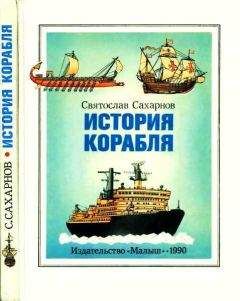Ада Рыбачук - Остров Колгуев
А у меня нет утвержденного эскиза. Художественный совет решает утвердить мой эскиз после преддипломной практики.
Но ведь мы не приедем после практики, мы не будем писать дипломы в институте.
Рассказывать о нашем решении директору института не хочется — не знаю, что он будет думать, но по должности ему придется отговаривать нас, запрещать… Рассказываю ассистенту руководителя нашей мастерской. Он почему-то считает, что это шутка. Советует не говорить об этом руководителю мастерской:
— Старик еще примет всерьез, разволнуется…
С тем и уезжаем.
На «Тритоне» повариха, женщина-коми из колхоза «Харп», рассказывает нам о своем колхозе. О том, какие огромные расстояния проходят оленьи стада — пастбища находятся в зауральских лесах, а летом, спасаясь от страшной комариной силы, стада подходят к самому морю, где комаров сдувают холодные ветры.
Рассказывает, что на Печоре на самом берегу есть поселок — оседлая база колхоза, где живут рыбаки и работники сенокосных бригад.
Мы решаем посмотреть поселок. «Тритон» подходит к берегу у оседлой базы колхоза «Харп» — «Северное сияние».
— Сейчас вода падать начнет, скорее! До свидания!
— До свидания…
«Тритон» разворачивается и уходит. Ровно двенадцать ночи. Большие склады у причала заслоняют поселок. Острые жесткие лучи красного солнца, черные комары. Никого.
Нет, вот стоит за складом — мы сперва не заметили — маленькая фигура. Руки втянуты внутрь, и рукава белой малицы висят пустые. Лицо, как из черного, старого, обдымленного и обветренного дерева, обрамлено темным мехом капюшона. Совсем древняя старуха, даже ссохлась от времени.
Смотрит и молчит.
— Больше никто нет?
— Нет, только мы.
— Ну тогда вы пошли. Я дочку ждала, в Ленинграде учится. Не приехала, так вы пошли.
Пошли.
Старуха поставила на стол самовар, принесла откуда-то розоватый бок семги. Порезала мелкими квадратиками, сложила в деревянную чашку, чуть посолила сверху крупной желтоватой солью — значит, рыба свежая, сырая. Поколебавшись, пробуем.
Съедаем одну миску, потом еще одну.
На полу постланы сети, на них шкуры.
— Теперь спи.
Прожив недели две в поселке, мы разделились. Володя остается здесь, на оседлой базе колхоза «Харп», работает в рыболовецкой бригаде, рисует поэтому мало и только нашу старуху. Каждый раз ее темное лицо. Я на знакомой шхуне «Тритон» отправляюсь снова в устье Печоры, высаживаюсь в одном из рыбоприемных пунктов, в становище Дресвянка, и дальше иду по тундре пешком в стада — они пасутся вон там, на голубых сопках возвышенности Вангурей.
Поживу в одном чуме — иду в другой.
Сопки горбятся темными силуэтами, неожиданно расступаются к озерам. Между ними громко шумят большие, как реки, ручьи.
Меня подвезли бы, но пешком мне интереснее. Чумы километрах в десяти-пятнадцати один от другого. Моему приходу почему-то не удивляются.
К чуму подхожу уже ночью — тихо. Сижу и жду, пока собаки кого-нибудь разбудят.
Шкура-дверь отодвигается, в темной щели появляется темное лицо. Узкие, под нависшими морщинистыми веками глаза недоуменно смотрят на меня. Тоже смотрю — не двигаюсь.
Потом шкура-дверь откидывается больше, и выходит женщина. Одна рука опирается на палку, другая, заброшенная за спину, лежит на пояснице. Золотистая паница украшена крупным узором: квадратик белый, квадратик темный, красная полоса сукна.
Пока закипает чайник, она кое-как рассказывает мне, что сын караулит сейчас стадо, старик весной — рано-рано весной — умер, а другой сын с женой уехал в отпуск в город.
— А я тебя знаю. Ты — рисуй. — (Это такое существительное, а не повелительная форма глагола.) — Пастухи приезжали, говорили.
Она расстилает шкуру ногами к костру и куда-то выходит. Укрываюсь курткой, поджав ноги. Что-то не спится. Женщина возвращается. Все время о чем-то рассказывая, роется в темном углу. Согнувшись, что-то тащит ко мне. Сняв с меня куртку, брезгливо морщится. Накрывает чем-то другим.
— Худой немного паница, все-таки теплее. Кожа больна холодит.
Подсовывает с боков.
— Летний чум: все на зимних санях увязано. Паница была новая, теперь сносилась. Шила — еще старик был, не помер…
Подсовывает край под ноги.
— Жалко, худой паница.
Бросает на ноги еще что-то.
Засыпаю. Тепло.
Утром разглядываю паницу. На ней хорошо сохранился только узор: такие же крупные, как квадратики на панице старухи, ветвистые рога большого хора.
В следующем чуме меня встречают необычайно — аркан падает вокруг меня незатянувшейся петлей. На лай собак из чума появляется женщина, очень черноволосая; скулы ее выразительного лица так высоки, что концы узких глаз забираются на висок, блестящие волосы много раз соединены между собой вплетенными в них полосками красной кожи; к полоскам прикреплены нитки бус, монеты, медные и плоские, с кольцами украшения — все это побрякивает и позванивает у нее за спиной.
Женщина что-то говорит мальчишке, бросившему аркан; он прячется за чумом.
Приближается тундровый праздник — День оленевода, или, как все говорят здесь, День оленя.
Многие семьи приспособили к этому празднику старинный обычай: прежде чем мальчик будет считаться юношей, он должен пройти испытание в силе, в ловкости, в меткости и выносливости. И тогда вместо малицы с капюшоном, который делается из головки теленка и сохраняет поэтому его рожки и ушки, ему сошьют малицу с воротом, похожим на воротник знатных испанцев с портретов Веласкеса, и высокую плоскую шапку с полосами цветного, как огонь сукна в том месте, где соединяются шкуры, и он получит свою упряжку оленей, свои нарты и свою винтовку.
Мальчик должен показать, как он умеет стрелять в цель, бросать вращающийся в воздухе топор на дальность, ездить на оленях на определенную дистанцию с определенной скоростью и, самое трудное, в стаде, которое пастухи и собаки гонят прямо на него, поймать заданного оленя, если надо — догнать его, удержать и, брыкающегося, связать.
Все лето перед праздником, который бывает в середине августа, мальчишки тренируются. Стреляют, бросают аркан. Впрочем, аркан они бросают с тех пор, как могут поднять, а не волочить за собой моток крепкой, по-особенному сплетенной веревки; но в это лето мальчишки бросают аркан с утра до вечера — на чум, на убежавших из юрка оленей, на собак, на бегущую сестренку, на идущую к озеру за водой мать.
В этом чуме мальчишек двое. Я живу здесь дольше, чем в других чумах, — мне очень нравятся мальчишки. Их мать рассказывает мне, что у них есть дедушка, строгий старик, который будет очень сердиться, если окажется, что мальчишки что-нибудь делают плохо. Мальчишки его боятся.
Старый дедушка приехал в чум не один — еще какой-то юноша, еще два старика. Я никак не могу понять, кто чей родственник, но, уже усвоив некоторые правила этой жизни, я тоже не задаю вопросов. Впрочем, понять, кто чей родственник, вообще очень трудно.
Старики неторопливо пьют чай. Потом, потуже перевязав ярко-малиновые, с пушистыми кисточками подвязки пимов — их завязывают под коленями, — выходят из чума.
Юноша гость и отец мальчишек поехали за стадом — мальчишкам устраивают что-то вроде генеральной репетиции.
Потом быстро проносились, фыркая и раздувая ноздри, олени, что-то кричали пастухи, лаяли собаки, мать мальчишек с их младшей сестренкой стояла в стороне.
Старики и отец мальчишек стояли на невысоком крутом холмике, опершись на хореи. Лица стариков неподвижны.
Испугается ли мальчишка бегущего на него рогатого стада?
Низкие плотные тучи касались земли, вода в ручье под сопкой потемнела, морщась на ветру.
Ночью я думаю о мальчишках и о себе.
Сделаем или не сделаем?
Мы решили зимовать на острове Колгуеве.
Приводим в пригодность для жилья и работы очередной дом — нашу новую мастерскую.
Только теперь мы можем, наконец, развязать холсты, развернуть бумажные свертки и, разложив на полу, устроить «отчетную» друг перед другом выставку работ: гуашей, рисунков, набросков, наблюдений, впечатлений, иногда даже записей; можем не торопясь обменяться мыслями, посоветоваться.
У нас впереди не месяц, не лето — целый год. Год самостоятельной работы, за которую мы сами должны отвечать перед людьми, помогавшими нам — делом, советом, молчаливым участием или молчаливым примером.
Друг перед другом.
Одежду нам уже сшили — одинаковые малицы: для работы на «улице» мне удобнее и проще мужская одежда; только в одну малицу вшито малиновое, в другую — голубое сукно.
Кроится ненецкая одежда очень просто и красиво — я бы сказала, конструктивно. Конструкция продиктована строением человеческого тела.
Только спустя большое время мы обнаружили, что у ненцев свои представления о пропорциях человеческого тела: для того чтобы сшить одежду, не снимают мерки, швее достаточно знать длину руки человека или ширину его плеч, остальные размеры высчитываются. По этим данным могут сшить даже обувь. Даже головной убор.