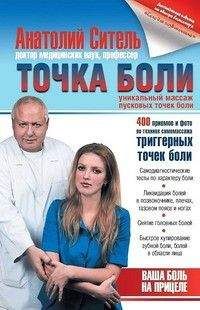Анатолий Загорный - Легенда о ретивом сердце
Кольцо в земле
Веселым перестуком молотков встретил их трудовой Подол. Илейка с удовлетворением отметил для себя два высоких вала на Болони, насыпанных совсем недавно — так что травой не успели порасти. По гребню стояли высокие частоколы. Прошлая осада Киева кое- чему научила подольских жителей. Да и сам Подол преобразился — это была теперь одна огромная кузница, где варили и ковали железо. Чуть ли не из каждой открытой двери сыпались искры, слышались веселые звонкие удары и тяжелое дыхание мехов. Киев ковал железо. Железо требовали все: смерды, дружина, войско, заморские гости. Железо стало важнее хлеба — оно защищало страну от врагов. Вот почему тянуло отовсюду здоровым духом пылающего горна, валялось кругом по улицам ржавое и пережженное железо и стояло такое непривычно густое поддымие. Выходили кузнецы, отхлебывали из кувшинов воду, утирали кожаными передниками мокрые лица. Порою выбегал подмастерье — безусый вихрастый парень, окунал в бочку с квасом зажатый клещами раскаленный добела наконечник копья. Шипел металл, поднимался над бочкой вязкими клубами пар. В другом месте прямо под ноги Бура высыпали горячие уголья, и конь испуганно шарахнулся. Никто не обратил на храброе внимания — всадник, вооруженный копьем, стал обычным на киевских улицах.
Вот и крепость! Каменная ее грудь поднялась еще выше. Надстроенные сторожевые вежи в три боя — внизу дубье, сверху сосна — глядели на Днепр. Да и Боричев изменился — кругом новые избы, и много щепы выброшено на дорогу, чтобы не месить грязь осенью. Распахнулись широко Кузнецкие ворота, повалило мычащее стадо. Хлопали бичи, вскрикивали погонщики, весело здоровались с вратниками в грубых шеломах, с секирами в руках.
Если Подол изменился, то Гора стала неузнаваемой. Детинец был расширен чуть ли не в два раза, срыто старое кладбище, снесены курганы, стоявшие здесь со времен Аскольда, перекопаны валы. Повсюду высилась каменные и деревянные постройки. Некоторые из них своим внешним видом очень уж походили на княжеские хоромы.
Какая-то тень тревоги прошла но лицу Добрыни.
— Человече, — обратился он к мужчине, тащившему связку сыромятных ремней на плече, — чьи это хоромы?
— Те, что убелены известью?
— Те самые.
— Бояр Чудиных, а с каменной резью — воеводы Свенельда. То бишь сына его… Воевода помер.
— А эти? — повернулся в другую сторону Илейка, показывая на крепкий каменный дом в два этажа с небольшим теремком под золоченою кровлей.
— Это Чурилы Пленковича! — с гордостью ответил человек. — Хорош-ить! Новгородцы строили! Спор зашел у них с Чурилой — сумеют ли камнем выложить дом, чтоб крепче греческого был, и деревянную резьбу-красу сохранить. И сделали. Молодцы новгородцы.
— Да, красны хоромы, — задумчиво бросил Добрыня, — А там вон белеют в саду, словно алатырь-камень?
— Строил Дунай-боярин, а продал Судиславу-боярину, — отвечал словоохотливый человек.
Он стал подробно рассказывать о постройке Десятинной церкви. Добрыня его не слушал, сказал Илье:
— Избы в хоромы обращаются, дружины — в боярство. Биться им в бане прутьями! Великую скудость примет наша земля.
— Красен град Киев, первостольная Киянь, — хвастался человек. — У Византии — Царьград, у Руси — Киев, и более нет подобного на земле.
— С богом, добрый человек, — кивнул головой Добрый я, и тот пошел, встряхнув на спине связку ремней.
Поехали дальше, не переставая удивляться небывалому шуму Горы. Скакали дружинники, сверкая шитыми золотом шапками с красными верхами, развевая по ветру богатые плащи, словно крылья. Тяжелой поступью шли ополченцы, хлопали о землю коваными каблуками. Богатый вельможа скакал на охоту, а за ним сокольничьи; тянулись на Житный торг телеги с мешками, степенной походкой шли богатые киевлянки, позванивали запястьями крученого золота. Отовсюду из-за оград вздымалась большими сугробами черемуха, пахла одуряюще.
Во всем своем великолепии предстала вдруг Десятинная. Сложенная из тонкого кирпича и белого камня, отделанная яшмой и мрамором, она словно бы свидетель- стонала величие и могущество расцветшего княжества, На площади перед Десятинной церковью собралась толпа. На том месте, где когда-то стояли вывезенные Святославом из Византии мраморные статуи, был устроен помост-ступень. Две статуи и сейчас еще стояли прислоненные к стенам храма. Перила помоста были перевиты золеной тесьмою, на возвышении стоял бирюч и, потряхивая булавой, читал княжескую грамоту:
— «Я, великий князь Василий, а другому не бывать до пашен смерти, но сонету старейшин града первостольного Киева и по наговору епискупов епархии нашей повелеваю каждого пойманного в разбое, буде он раб, холоп или свободный, тащить к мосту у храма и рубить ему голову. Надеть ее на кол и оставить тут же. Да убоится великое множество наплодившихся грешников. Буде захвачен меч или кистень, нести все в сени великого князя, а также клады его. А кровавые портки не надо. Да пребудет над нами милость божья, и да убережет нас господь бог от тех татей, учиняющих разбой-позорище земли нашей. Аминь»,
Бирюча никто не слушал — такие грамоты читали едва ли не каждый день. Смотрели на жертву и на палача. Палач был высокий, плечистый, голый по пояс, в островерхой шапке лих. Улыбаясь, ходил по гнущимся под его ногами доскам и показывал народу свои играющие на руках мышцы. Толпа одобрительно гудела. Приговоренный — маленький, тщедушный» немолодой ужо человек со снизанными за спиной руками, дико вращал глазами, в которых стояла лютая скорбь. Иногда ему приходила какая-то мысль, он окидывал взглядом стоящую на помосте липовую плаху, судорожно глотал слюну, и это смешило толпу.
— Допрыгался? — кричали ему. — С дерев-то на шею прыгал! Убивец! Отведаешь меча судного, гостинца к;
— Не повинен, братцы, оговор! — поворачивался из стороны в сторону разбойник, но ему не давали говорить.
— Руби! Руби! — кричали в толпе. — Эй, кат, душегубец, кидай его на плаху!
Дьяк сказал что-то сквозь зубы палачу, и тот повернулся с лицом к храму, торжественно перекрестился на золочёные купола. Затем поднял с пола длинный меч, обнажив и любовно погладил ладонью. Меч был самым большим его состоянием. Сияющий, будто стекло, широченный, он одним своим видом должен был отбивать охоту к новому разбою…
Алеша повернул коня и догнал смазливую девушку которая поднимала копчиками пальцев край подола, хот лужи давно уже высохли. В другой руке она несла решето, из него выглядывали две хорошенькие мордочки котят. Алеша осторожно, чтобы не напугать, звякнул струнами гуслей. Девушка обернулась, сверкнула глазами.
— Здравствуй, красная девица! Как звать тебя? — спросил Алеша.
— Иришка! — ответила та и хихикнула. — А тебя — Желтая стружка?
— Ну уж нет, — качнул кудрями витязь. — Меня кличут Алешкой.
Перегнувшись в седле, пощекотал шею девушки. Та даже взвизгнула, остановилась,
— Ай, невежа какой… Теля белолобая, — сказала, оглядывай Алёшу с головы до ног, — почто на улице задираешь?
— Так уйдем с улицы, — предложил Алеша.
— Но… грешно! — погрозила пальцем та.
— Да кто тебя этому научил?
— А батюшка епискуп в проповедях толкует…
— Ах, толстопузые! Чему учат! Плюнь на него и переходи в мою веру, — продолжал Попович.
Он сорвал на ходу пышную гроздь цветущей черемухи, подал девушке.
— А какая твоя вера? — спросила она с любопытством.
— Подставь ухо, нельзя вслух…
Девушка подставила розовое в небрежных кудряшках ухо, и Алеша зашептал что-то.
— Ай! — вскрикнула Иришка, — Поезжай прочь. Невежа! В ухе засвербило.
— Вот какая моя вера, Иришка, — красовался в седле Алеша. — Ты кто такая?
— Божья раба.
— Раба, да не невеста! — засмеялся Алеша, — Куда идешь?
— Домой. Мыши развелись у батюшки в закромах, котят у свояка попросил.
— Что котята! Пока еще вырастут! Я приду вечером и всех мышей переловлю!
— Ты? Ты никогда их не переловишь!
— А вот же не уловлю. Слово такое знаю, — убежденно подтвердил Попович, — садись, что ли, подвезу.
Прежде чем девушка успела опомниться, Алеша подхватил ее и усадил впереди себя.
— Люди-то смотрят! Грешно! — вырывалась девица, а сама не могла отвести взгляда от его голубых глаз.
Так они и ехали, задевая головами ветки черемух, пугая недовольно гудящих пчел. Жалобно мяукали в решете котята…
Добрыня с Илейкою не видели, как палач подошел к жертве, схватил за шиворот и бросил на плаху, широко расставив ноги. Слышали только — загудела толпа, приветствуя ловкий удар. Так вот он каков, стольный град Киев! Не узнать. Все ново, все деловито в нём, выветрился старый, древних князей дух. Все было сурово и просто тогда.
— Небось от них, иноземцев, — угадав мысли Илейки, сказал Добрыня, показав на двух венецианцев, степенно шагавших по площади в причудливых камзолах, черных чулках и туфлях с большими пряжками. Волосы у них спускались из-под широкополых шляп до самых плеч, бороды и усы были коротко стрижены. Ехали другие — закутанные в голубые плащи с нашитыми на них черными клювами. При виде их народ кругом зашептался. Называла имя норвежского ярла, но Илейка не разобрал. Кто-то сказал, что ярл изгнан из самой Норвегии и теперь живет у великого князя. Да, Кияиь изменилась неузнаваемо, в люди ее изменились. Многие светили золочеными пуговицами и дорогими каменьями по оплечью, многие щеголяли цветными, небывалыми раньше вышивками.