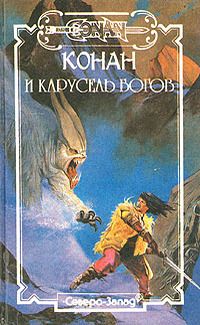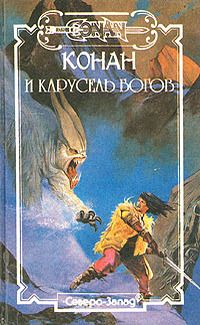Василий Афонин - Вечера
— Стучать здесь, — говорит Адик и показывает на козлы, стоящие рядом с поленницей. Потом он отходит в дальний угол ограды, так что двор со всеми его тайными закоулками, остается за спиной Адика, а мы в это время разбегаемся кто куда — прячемся. Адик минуту стоит молча и громко, чтобы все слышали, говорит:
— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать!
Теперь он, не отдаляясь шибко от козел, ходит по ограде, посматривая на крышу, где сметано стожком сено, заглянул за поленницу, за угол сарая. В сенник, под навес, во двор Адик не заходит — попробуй угляди в темноте. Единственная надежда на то, что кто-то из нас, не выдержав, высунется, тут-то ведущий должен заметить его, громко выкрикнуть имя и постучать о козлы приготовленным поленом. Но мы затаились — сидим не шелохнувшись. Ведущий топчется на месте, вытягивая шею, глядит туда-сюда, но надо искать, таковы правила, иначе его заставят водить второй раз. Адик подходит к воротам сенника, они открыты настежь, чтоб не мешали игре, останавливается в проходе, положив руку на ворота, внимательно всматривается в темноту. От козел он отошел шагов на двадцать. В это время, выскочив из-за стожка, прямо с крыши двора в ограду прыгает один из игроков, летит, опережая Адика, к козлам. Успел, стукнул поленом. Осталось трое. Адику хотя бы одного надо заметить-застучать, иначе опять водить игру, а водить — искать никому не охота, все настроены прятаться. В этой игре, как и во всякой другой, много хитростей. Отвлекают внимание ведущего, выручая друг друга. Меняются одеждой. Поменялись шапками и даже фуфайками или пальтишками, выдвинет кто-то плечо из-за угла, другой голову выставит и ждет. Ведущий заметил знакомую шапку. «Петька, — кричит, — вылазь, я видел!» И к козлам — стучать. А это вовсе не Петька, а Гришка. Ошибся — стук не засчитывается.
Ведущий прозевал — все простучали. Опять ему вести — искать. Так бывает по нескольку раз подряд, если ведущий неповоротлив и несметлив. Но такое — редко, чтобы один и тот же вел игру с начала и до конца. Обычно кто-то попадается, как ни хитрит, и начинает вести. Игра как-то сама по себе непроизвольно складывается так, что все по очереди должны побывать ведущими, сколько бы человек ни участвовало в игре. Сыграли по кругу, каждый раз вел, четыре раза прятался. Если желание не прошло, продолжаем игру по новому кругу, ведет — кого застукали.
В прятки напрашиваешься играть рано, лет с семи, как только поймешь суть игры. Играешь сначала с братьями своими, соседские ребятишки приходят. Пошел в школу — школьные товарищи появляются, с ними собираешься для игры. В прятки играли только в феврале, только в метельные вечера и никогда больше — ни в какой другой зимний месяц, ни весной, ни осенью, ни тем более летом. И — до определенного возраста. Учишься в начальной школе — играешь подряд во все игры, перешел в семилетку, стал жить в интернате, от многих игр отходишь постепенно. В пятом еще когда — играешь в прятки по-прежнему, в шестом — редко, а в седьмом и не вспоминаешь про эту игру. Другие увлечения, другие интересы и заботы. Из игр — лапта, иногда городки. Это — весной. Летом, когда свободен от работы, удочка заменяет все игры. Осенью — грибы, ягоды. Зимой — ружье, куропачьи наброды, заячьи тропы прямо за огородом, в согре и дальше по перелескам, до самого бора. Косачи на березах в ясные морозные дни декабря и января. А в феврале — прятки, лучше нет для нас игры.
Играем. Затаишься в сеннике в углу, упав на хрусткое, пахнущее лугами сено, слушая, как свистит ветер в заледенелых ветвях тополей, и вдруг, забыв об игре и приятелях, задумаешься глубоко — что вот тебе уже идет четырнадцатый, следующим будет седьмой класс, потом выпуск, в десятилетку не пойдешь — далеко, да и нужда, и что-то придется делать, а впереди так много всего, дороги в разные стороны, а тебе недавно исполнилось лишь тринадцать лет. Тринадцать, и ты играешь в прятки.
В феврале, в долгие зимние вечера, лучше всего сидеть дома. В избе тепло, светло, на стене висит лампа — стекло промыто, высушено — сияет. Ты приготовил уроки на завтрашний школьный день, помог матери протереть для квашни картошку, у тебя интересная книжка «Два капитана» или Гайдар, ты лежишь на печи и, отодвинув край ситцевой, в цветочках занавески, чтобы свет от лампы падал на страницы, читаешь. Большую печь мать топила утром, она прогрета, долго будет держать тепло, ты лежишь, прижавшись спиной к чувалу, подстелив под себя заношенную материну фуфайку, подложив под голову пимы, читаешь «Судьбу барабанщика», слушая, как на разные голоса гудит в трубе ветер.
— Вот разыгралась метель, — говорит мать, подойдя и наклоняясь к замерзшему, залепленному снегом темному окну. Ты вздрогнешь, как от озноба, представляя, что делается сейчас по деревне, в полях, меж перелесков, в бору, куда ездят за дровами, прижмешься теснее к чувалу, прикроешь ноги краем фуфайки, перевернешь страницу, открывая новый рассказ — «Дальние страны».
В марте, уже в первые дни месяца, незаметно для глаза начинают подтаивать, оседать снега. Подтаявший верхний слой, схваченный ночным морозцем, превращается к утру в крепкий звонкий наст — чурым, по которому можно бегать без лыж хоть до самого бора — не провалишься. Иной раз перед закатом, когда после полуденного солнца начинает заметно подмораживать, я становился на лыжи и уходил на часок-другой за огород, за согру, покружить в ближайших перелесках. От молодых березок, от осинок и таловых кустов ложатся уже на снег сизые тени, но на полянах еще много солнца, сугробы искрятся, переливаются множеством мельчайших разноцветных огоньков, ты щуришь глаза, размашисто бежишь через поляну, и лыжи твои крепко постукивают о наст. Чувство радости снова охватывает тебя, когда бежишь ты один к дальнему перелеску, дыша ровно и глубоко, ты бежишь и бежишь, огибая перелески, по полянам и полянкам, знакомым тебе с малых лет, к последнему сенокосу, к бору. Вот болото, по нему — скрытые снегом — кочки и пни, а за болотом, на краю смешанного леса, стоит молодая сосна, и зелень хвои ее рядом с голыми ветвями осин и берез кажется еще ярче. За болотом начинается сосновый бор, с осиновыми, приютом лосей, островами, с высокими белоствольными березами. Ты разворачиваешься, проходишь с полверсты, приглядывая удобное место, чтобы передохнуть, садишься на краю согры на пень, лицом к затухающему солнцу, откидываешься спиной к осиновому стволу и, закрыв глаза, сидишь несколько блаженных минут. Небо поднялось, очистилось от февральской наволочи, в полях стало просторней, исчезла глушь, оттаяли ветви деревьев и, если налетит сейчас верховой ветер, он уже не сломит осиновую ветку так легко, как в морозные зимние дни. Солнце скрывается за согрой, надо идти домой. К деревне приближаешься в сумерках, ставишь лыжи в угол сенника, и в этот вечер больше не выходишь на улицу. Наутро в школе рассказываешь, что был рядом с бором.
В апреле мы ждем ледохода, ручьев, птичьих гнезд, первых проталин, обдутых ветрами полян, чтобы поиграть в лапту. Вечерами сидишь дома, идти на деревню — слякоть. В ограде, до темноты самой, возишься со скворечнями — чистишь, ремонтируешь старые, мастеришь новые. Забота большая. Первая апрельская неделя на исходе уже, скоро прилетят скворцы. Надо заранее припасти доску, нужной длины гвозди, паклю. Чтобы под рукой были всегда ножовка, молоток, клещи. Необходима жердь — сухая, тонкая, прочная. И не с городьбы снимешь ее — за это взбучку дадут, — а вырубишь сам в осиннике, осенью еще, да одну в запас, на всякий случай. Притащишь волоком домой, очистишь от коры и — на сарай. Если у тебя два скворечника, один обязательно должен быть поднят высоко на жердине, чтобы отовсюду был виден. Второй можно под тесовым скатом, между окон, а есть еще — вешай, куда пожелаешь. Иной наделает — не знает куда вешать.
Мы с Шуркой дней десять вечерами занимались скворечнями. Сначала в моей ограде, потом у него. Захотелось нам самим смастерить новые. Когда ты мал совсем, взрослые помогают обычно — отец или брат. А нынче мы решили самостоятельно сделать и показать приятелям. Как лыжи. Ну и намучились — несколько кусков доски испортили. То отрежем криво, то леток продолбим слишком большой, кулак пролазит, в таком домике скворец жить не станет. Или низко продолбим леток — тоже плохо. А то, продалбливая, расколем долотом доску — пропала работа. Строгать рубанком мы почти не умели, топором, хоть он и острый, не получалось, зарубины оставались, а с непроструганными краями доски плотно не подгонишь одну к другой. Строгали рубанком, и топором тесали, и рашпилем потом выравнивали, но все одно — щели оставались в соединениях. Щели эти мы забивали — конопатили паклей, чтобы ветер не продувал скворечню. Скворцу — нам взрослые об этом говорили, да мы уже и сами понимали, — совсем не обязательно, чтоб скворечник был красивым. Главное, чтобы он сделан был добротно, без щелей, леток — чуть не под самую крышу и узкий — впору скворцу пролезть, а то сорока навестит или кошка лапой заберется. Услышал — скворцы крик подняли, значит — кто-то лезет в гнездо.