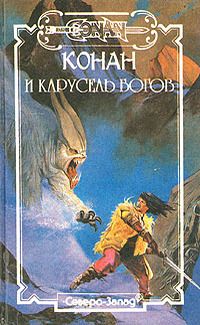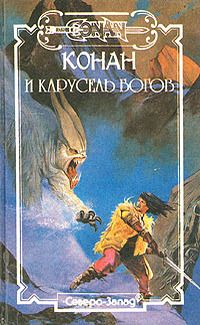Василий Афонин - Вечера
Клуба в деревне не было, в конторе — тесно, не вмешала она всех зрителей, и показывали кино обычно в амбарах. Одно лето показывали в коровнике. Начали строить коровник, подняли сруб, ни пола, ни потолка не было в нем все лето, там и показывали. Смотреть кино приходила без малого вся деревня. Приносили скамейки, табуреты, рассаживались в амбаре, образуя ряды. Киномеханик, установив аппарат, вешал на стену перед зрителями мятую, давно не стиранную простыню, обходил ряды, собирая медяки. Аппарат надо было крутить за ручку, как крутят сепаратор или мясорубку, тогда только на экране появлялось изображение, крутить было тяжело, крутили по очереди взрослые ребята, за это им разрешалось смотреть бесплатно, сам же киномеханик лишь менял катушки с пленкой. Пленка была старая, часто рвалась, вместо восьми частей иной раз прокручивали шесть, кино было немое, никто не слышал, кто что говорит на экране, но впечатление чуда от этого не исчезало, и мы, посмотрев фильм, с неделю еще обсуждали его, спорили и делились мнениями. Потом вместе с аппаратом киномеханик стал привозить движок, немые фильмы сменились звуковыми, и это было для нас еще большим чудом. Когда показывали впервые звуковой фильм и с экрана раздались голоса, зрители оцепенели — так это было неожиданно, люди на экране не только двигались, но и разговаривали. Вот из глубины экрана, увеличиваясь, дымя, с грохотом, прямо на зрителей пошел паровоз, тянувший состав вагонов, мужики и бабы, молодые ребята и девки стали отклоняться назад. Сидевшая в первом ряду семнадцатилетняя девка, опрокинув скамью, с криком кинулась из амбара и, не видя ничего со страху, сшибла с ног стоявшего в дверях инвалида.
— Дура-а! — заорал тот, подымаясь, подбирая костыли. — Куда летишь, глаза вылупила? — А девки уже рядом с амбаром не было — убежала. Зрители, забыв про испугавший их паровоз, хохотали над девкой, и назавтра все говорили по деревне про нее.
Мы посмотрели тогда и «Семеро смелых», и «Смелые люди», и «Падение Берлина», а главное, мы посмотрели несколько серий «Тарзана», как, раскачиваясь на лианах, перепрыгивая с одного дерева на другое, дрался он с крокодилами и львами, кричал, приложив руки ко рту. Какой он был смелый, ловкий и сильный, этот Тарзан…
В те вечера, когда показывали кино, гулянья под тополями не было. Дождавшись, пока взрослые расходились по домам, парни и девки еще некоторое время стояли возле амбара, со смехом и возгласами вспоминая содержание фильма, потом парами уходили в темноту. Шли и мы домой.
Иной вечер мы с Шуркой Городиловым и еще кто-нибудь из ребятишек нашего края сговаривались поиграть в городки на поляне за огородом и играли долго, по нескольку партий, пока были различимы фигуры, или, смастерив черемуховые луки и камышовые, с жестяными наконечниками, стрелы, тренировались тут же, на поляне, в стрельбе в цель, споря, чей лук упруже и чья стрела летит дальше и ровнее, кто точнее попал в цель.
Ни в осенние дожди, а потом в заморозки с комьями смерзшейся по дорогам грязи, ни в долгую заснеженную зиму с санным, через деревни, путем, ни в весеннюю распутицу кино не привозили, но нам от лета до лета хватало воспоминаний. Если забывали что-то, додумывали.
Осенями, в дождливые глухие темные вечера, мы сидели дома, готовили уроки при свете керосиновой, подвешенной над столом, лампы, читали книжки. По заморозкам, потом всю зиму и весну, до поры, пока не подсыхала возле тополей луговина, парни и девки собирались в конторе, в передней, где печка в углу и лавки у стен. Мы с Шуркой, да и другие ребятишки, не ходили в контору. Там было тесно, накурено, на полу валялись окурки и подсолнечная шелуха, и хотя приносили всякий раз гармонь и танцевали одетые, было совсем неинтересно, и парни и девки не казались нам такими, какими казались они на луговине в летние тихие лунные вечера. Если гармони не было, парни и девки играли в «дурака».
Зимой у нас были свои развлечения: мы катались с высоких крутых берегов Шегарки. Лучшие зимние месяцы для этого — декабрь и январь, когда после снегопадов устанавливаются ясные морозные дни и светлые вечера: светло от луны, звезд, снега. В ноябре идет снег, и мы молим, чтобы выпало побольше. Февраль — месяц метельный, не покатаешься, в марте ждешь весну, дни прибывают, прибавляет тепла, сугробы подтаивают, оседают, ниже становятся наши снежные горы, да и охоты уже такой нет к катанию, как зимой. Меняются времена года, меняются и твои желания.
Кататься с берегов выходишь лет с шести, обычно возле своего дома, если живешь на берегу; кататься начинаешь на санках. Но санки не в каждом доме, если даже в семье есть хозяин, не всякий может сделать санки, как и запряжные сани, — специалистом надо быть, плотником или столяром. У нас санок своих никогда не было, когда случалась нужда, брали у кого-нибудь из соседей, а для катания с берегов мать делала нам из коровьего навоза лотки. Выкладывала из теплого еще навоза дно, борта, лепила лоток не круглым, а продолговатым немного, чтобы можно было в него поставить ноги, вмазывала крепкую веревочку дав смерзнуться лотку, переворачивала, обливала несколько раз водой дно, оно покрывалось тонким слоем льда, и — лоток готов. Но на лотке не очень удобно кататься, он крутится при движении, и приходится направлять ход ногами, да и не со всякой горы съедешь на нем, а лишь с той, которая хорошо накатана. Поэтому на лотке катаешься до школы, в первую школьную зиму, а потом — в паре с кем-нибудь из школьных товарищей, у кого есть санки. А лет с двенадцати становишься уже на лыжи.
В ту осень, когда мы купили у Самариных избу на берегу Шегарки и переехали в нее, я только пошел в школу. Под Новый год мать сделала мне лоток, и мы катались на нем с Шуркой с правого берега, напротив нашей избы. На правом берегу, напротив нашей избы, жил Харкевич, маленький глуховатый старичок, жил он с женой, такой же престарелой, как и сам, и с сестрой — больной, редко появляющейся на улице женщиной. Изба Харкевича сенями выходила к речке, возле сеней выкопан был погреб, с этого высокого погреба, который пологим боком своим выравнивался с берегом, мы и катались с Шуркой на лотке. Снег был до нас еще утрамбован, накатан, лоток набирал скорость, едва съехав с погреба, и долго несся вниз, к невидимой береговой черте, потом через речку и останавливался у противоположного берега. Лоток нам прослужил недолго. Была моя очередь съезжать, Шурка подтолкнул меня в спину, чтобы спуск был еще более скорым, лоток закружило, понесло, подобрав ноги, не управляя лотком, как обычно поступали мы, сжавшись, держась за гладкие борта руками, я сидел в лотке. Лоток понесло на речку и со всего маху ударило торцом о кучу мелкого, смерзшегося льда возле проруби. Удар был крепким, лоток раскололся надвое, меня выбросило в сторону. Хорошо, что не на кучу льда — иначе ободрался бы я и ушибся. Погоревав, мы бросили половинки лотка в сугроб под берег, а сами стали кататься в очередь с теми, кто приходил со своими санками.
На гору сходились ребятишки ближайших домов, всегда оказывалось трое-четверо санок, некоторые жадничали, катались самостоятельно, другие уступали через раз и предлагали садиться вместе. У Харкевича были санки, я часто брал их, чтобы вывезти из скотного двора в огород навоз. Давая санки, Харкевич всякий раз наказывал сразу же после работы вернуть их, я так и делал, но иногда, когда хотелось покататься независимо ни от кого, я, будто бы забывая, зная, что старик не заругает, и вечером выходил с санками на гору. Санки были большие, с отводами — как розвальни, с горы они шли ровно, не меняя направления. Скатившись, тяжеловато было втаскивать их с речки на погреб, но тащил не один я, а сразу в несколько рук, потому что, кроме меня и Шурки, в санки садилось еще двое. Первым, возле головашек, садился Шурка, позади него — я, за моей спиной еще кто-нибудь; четвертый, подтолкнув санки, схватившись за наши плечи, становился на концы полозьев, и мы неслись, горланя от восторга, и крики наши в тихой светлой морозной ночи далеко слышны были по деревне. Крику, смеху и визгу полно было на каждой горе, а гор таких насчитывалось несколько, если пройти по Шегарке от крайней избы до крайней на другой конец деревни. Каждый катается рядом с домом, хвалит свою гору и редко идет на соседнюю. Но иногда собираются вместе человек пятнадцать, тогда санки катятся чередой, налетая друг на друга, переворачиваясь, и голосов — на версту во все стороны. Бывает, сорвется одной ногой тот, кто, оттолкнув санки, стоит на полозьях, сорвется, вцепится в плечи сидящего, потянет всех назад, перевернет санки на полном ходу, и мы летим под гору кувырком, роняя шапки и рукавицы. Накувыркаешься, пальтишко в снегу, одной пуговицы нет — оторвали, варежки сырые, шапка на сторону сбита, стоишь, передыхая, хватая раскрытым ртом воздух, а санки уже утащили на гору, насело человек шесть, один на другого, отвода не поломали бы, попадет от Харкевича. В другой раз не даст.