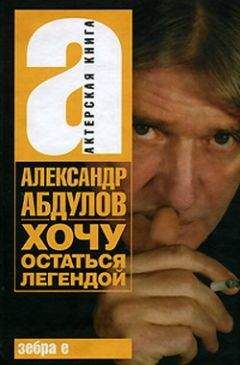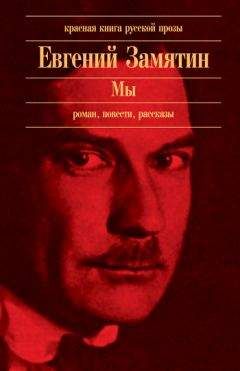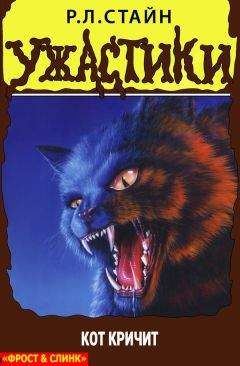Вильям Александров - Странный гость
В сущности, все они были неплохие ребята — приветливые, веселые, неистощимые на выдумки. Каждый раз, когда он звонил, беспокоясь, они звали его к себе: «Хватай машину, старик, езжай к нам, не пожалеешь! Мы тут такой капустник сварганили — живот надорвешь!»
Или: «Старик, извини, ради бога, ну не можем мы ее сейчас отпустить, сам знаешь, — сдача внепланового на носу. Мотай сюда, к нам, что ты там киснешь!»
Иногда он не выдерживал одиночества, и вправду «хватал машину», приезжал. Его встречали преувеличенно радостными возгласами, словно только его и ждали, кидались на шею, обнимали, целовали (у них вообще было принято целоваться при встречах), освобождали место, усаживали и тут же о нем забывали, продолжая свои темпераментные разговоры, в которых постороннему ему трудно было понять что-либо: Достаточно было какого-то одного намека, чтобы он вызвал бурную реакцию взрыв хохота или негодования. Тут же по ассоциации кто-то произносил другую фрау, и она вызывала еще большее оживление.
Все разговоры, как правило, вертелись вокруг театра, очередной постановки, только что прошедшей репетиции или спектакля. Они понимали друг друга с полунамёка, с одного взгляда, они жили одной жизнью, все знали друг о друге, это была одна Семья. И Светланов, хотя и сидел рядом с ними, как свой, очень скоро начинал ощущать, что он все-таки посторонний. Видимо, черта, отделявшая сцену и зал, незримо проходила здесь тоже. И Люда, сидящая совсем рядом, тоже была по ту сторону. Перешагнуть эту черту не удавалось. Чтобы как-то приблизиться к Люде, войти в эту жизнь, он даже стал иногда приходить на репетиции, тайком проскальзывал в зал, садился в дальней углу или стоял за портьерой, наблюдал, как рождается то, что потом превращается в праздник.
То, что приходилось видеть, было далеко не праздничным — это был тяжеленный труд, в самом прямом смысле, — с потом, слезами, надеждой и отчаянием, и, наконец, с робкой радостью, когда в конце концов начинало получаться что-то.
Он поражался фанатической преданности этих людей своему делу.
Днем плановая репетиция, вечером — спектакль, после спектакля иногда еще репетиция — молодежь готовит внеплановый спектакль. Еда — на ходу, что у кого есть, все делится по-братски, зубрежка роли — на ходу и ночью, перед сном; сон, — четыре-пять часов, а роль не получается, хоть убейся… И вот уже режиссер, сам измочаленный от бесплодных попыток, хрипит в микрофон что-то обидное, отшвыривает стул, идет разъяренный по пустому залу.
И тогда, сквозь слезы, раздается со сцены отчаянный крик: «Не могу я больше! Не могу, понимаете?! Снимайте меня с этой роли!»
Великолепно! — гремит вдруг режиссер, застыв на полдороге с поднятой рукой. — Закрепить вот так! Повторить!
И все начинается сначала.
У Люды была подруга — Валя Малышко. Фамилия как будто народно подобрана — маленькая, щупленькая, с очень живым, подвижным мальчишеским лицом, — прирожденная травести, «травестушка», как говорят в театре, она неплохо играла мальчишек и девчонок. Вместе с Людой они окончили студию, вместе пришли в театр, но дальше пути их разошлись — Люде давали роль за ролью, а Валя сыграла два-три раза и застряла в массовках. То ли ролей подходящих не было, то ли не нашла она себя, во всяком случае, перевели ее во вспомогательный состав, и перспективы никакой не предвиделось. Первое время она часто приходила к Люде, делилась своими огорчениями с ней, с Николаем, но не унывала, посмеивалась над собой, рассказывала, какую «шикарную роль» ей на этот раз дали: целых пять слов произносила за весь спектакль и протирала тряпкой стол.
Николай подбадривал ее, как мог, говорил, что все великие актрисы с этого начинали. Она грустно улыбалась.
Последнее время появлялась она все реже, потом вообще перестала приходить.
Как-то Николай увидел ее в театре в синем халате, со шваброй в руках. Она хотела проскочить мимо, но он окликнул ее, поймал за руку.
— Валя, ты чего не заходишь? Уборщицу играешь, что ли?
Играю! — она грустно усмехнулась. — За сценой я теперь играю, при закрытом занавесе.
— Как это?
— Вот так. В цех перевели, в бутафорский.
— И ты…
— Ну, да… Видишь, — она встряхнула шваброй.
— Слушай, — сказал он в сердцах, — бросай ты это все к чертям, пошли к нам в школу, лаборанткой тебя устрою, ты ведь детей любишь.
Детей я люблю, верно, Коленька. А без театра умру, понимаешь?
— Так ведь играть тебе все равно не приходится.
— Ну и пусть. Хоть полы мыть, а в театре.
А однажды пришла, когда Люда была на выездном спектакле, посидели с Николаем, чаю попили… И вдруг она расплакалась, сказала, что был у нее последний, может быть, шанс, так и тот Людка отобрала. Оказалось, некому было играть Гогу в «Человеке с портфелем», вспомнили про Валю, мальчишки ведь хорошо получались, начала репетировать со Ставским, так Людка приревновала, заявила «через мой труп». И он отказался.
Николай удивился. У Люды столько ролей, не знает, как с ними справиться, и эту роль приревновала?
— Да не роль, чудак ты эдакий, Алика ко мне приревновала… Ах, извини, — засуетилась она, увидев его глаза, — я думала, ты все знаешь… У них ведь давний роман, всем известно. Она и сейчас с ним уехала.
Она посидела еще немного для приличия, потом заторопилась, ушла. Он остался один в пустой квартире. Выло невыносимо. Хотелось крикнуть: «Не могу больше, снимите меня с этой роли!»
Понимал, сказано в отместку, но в то же время было похоже на правду. Иногда она по два три дня была в отъезде, он не проверял, считал оскорбительным.
Два дня, пока ее не было, он места себе не находил А когда приехала, тут же спросил: это правда?
Дрянь! Какая дрянь! — Люда закрыла лицо руками.
— Значит, правда? — спросил он снова.
Ты поверил, значит, правда! — простонала она.
Он оделся, вышел. Остаток ночи проходил по улицам, все думал, пытался понять.
А днем она позвонила ему в школу. Сказала, что уходит, все равно у них ничего не получится, она это поняла окончательно. Все, что в квартире, она оставляет ему, ей ничего не надо, у нее все будет другое. Единственное, что она решила оставить себе — это его фамилию. Она бы сменила и ее, но есть причина, по которой ей не хочется этого делать. От всего этого нелепого замужества у нее останется хоть что-то светлое.
«Ну, вот и объяснение», — сказал он себе.
Он уехал сам. Квартиру оставил ей и уехал в южный город, где в школе-интернате работали сокурсники, они давно звали его туда.
А через некоторое время узнал, что она вышла замуж за Алика Ставского, своего бывшего партнера по первому спектаклю, и узнал, что ребенок у нее родился, только уж слишком скоро — немногим более полугода прошло.
И тут он вспомнил ее слова насчет какой-то причины, по которой она решила оставить его фамилию.
Он заволновался. Написал ей на театр, но она не ответила. Он написал снова, потом еще раз. Наконец получил письмо. Она писала, что он напрасно тревожит ее и себя — для этого нет никаких оснований.
Уже намного позже, когда он собирался жениться на своей бывшей сокурснице, Люда вдруг написала ему. И хотя прошло три года и она успела побывать замужем и разойтись, сработала, по-видимому, женская мстительность — она язвительно поздравила его с предстоящей женитьбой и как бы между прочим сообщила, что справку для бухгалтерии может выслать, если понадобится. Сын растет, зовут его Валерии, фамилию носит его. Но никаких встреч с сыном никогда не будет, она собирается вновь выйти замуж, надеется, что это замужество будет более прочным, и не хочет, чтобы у мальчика возникли переживания. Он еще в том возрасте, когда может привыкнуть к новому отцу.
Николай затосковал.
Он так мечтал о сыне, о маленьком родном человеке, которому мог бы шаг за шагом открывать мир, как он это делал для многих детей в школе, но не мог сделать для одного — самого близкого. Он представлял себе крошечного мальчугана, с широко раскрытыми, обращенными в мир глазами. В эти глаза может заглянуть каждый, но почему-то он, Светланов, не имеет на это права.
Он написал ей взволнованное, почти кричащее письмо, просил отдать ему сына, убеждал в том, что ей, с ее бурной театральной жизнью, вечной занятостью, поездками, гастролями, ребенок будет только помехой. Ей придется надолго расставаться с ним, а главное — у ребенка не будет семьи. Он клялся, что у него ребенок обретет семью, а она в любой момент, когда захочет, сможет видеться с ним.
Наверное, в вол нении он допустил в письме что-то обидное. В ответ он получил язвительное послание, полное издевок. Там говорилось, что какие бы перемены ни происходили в ее жизни, ее сыну при всем том всегда будет хорошо. Во всяком случае, она может дать ему гораздо больше, чем он вместе со своей тел кон Тамарой — она ее хорошо помнит но институту и хорошо представляет их совместную жизнь, при которой наверняка от тоски повеситься можно. Когда собираются два таких скучных человека, как он и Тамара, иначе быть не может. И он еще осмеливается предлагать ей отдать сына! Да она его скорей в детский дом отдаст, в приют, чем в их педагогический питомник! Слава богу, она достаточно обеспечена материально и независима морально, чтобы обойтись без всякой его помощи, ну, а если с ней когда-нибудь что-то случится, ее родители позаботятся о ребенке, но ни в коем случае она не допустит, чтобы он попал в руки таких «благочестивых, умудренных педагогическим опытом…» и т. д.