Рейнольдс Прайс - Долгая и счастливая жизнь
И только с дальнего конца церкви пришло нечто, похожее на ответ. Мама опять зажгла спичку и осветила Майло, и он двинулся вперед. Он-то как раз пел, хоть и не понимал смысла того, что поет, да ему и дела не было:
Я ливан тебе подарю,
Благовонье воскурю…
и шел он так быстро, что у самого клироса ему осталось допеть еще две строчки:
Дым взовьется, гимн прольется
Господу и царю.
Потом все трое запели припев, Майло поклонился и преподнес свой дар. То, что он положил у корзины, для него было всего лишь дешевенькой коробкой для украшений, которую он шесть лет назад выиграл в механическую лотерею на заправочной станции (он отроду не нюхал благовоний), а Мэйси, которого он, выпрямившись, увидел первым, был просто черт-те как выряженный Мэйси, то же самое и Рэто, и пастухи, и ангелы, и его сестра Роза-кок, и сначала даже Фредерик. И по тому, как он с улыбочкой оглядел каждого (Сестренке он скорчил рожу, скосив глаза к носу), все поняли, что, когда кончится представление, Майло устроит им потеху, — все, кроме Розакок. Она сначала даже не видела его, не взглянула ему в лицо. Она, в сущности, не видела его лица с девятнадцатого ноября, с того утра, когда она обещала побыть с ним, когда они поехали в Роли, и она получила письмо от Уэсли, и прочла его в машине, и когда возле того помертвевшего поля и пеканового дерева она вдруг все поняла и, не сдержав слова, велела Майло отвезти ее домой, бросив его одного с его горем. И когда зазвучал припев, она поглядела на Фредерика, но Фредерик созерцал Майло или, может, огонек свечи в его руке, а Майло, должно быть, состроил ему смешную гримасу — Фредерик заболтал ножонками в воздухе, и хоть не улыбнулся, но поднял ручку. Розакок поняла — и кто угодно мог понять, — что он обращается к Майло, и тот, не переставая петь, протянул ему свободную руку, а Фредерик взял его смуглый палец, и сжал, и потянул ко рту. И тут Розакок не удержалась, и взглянула на Майло, и увидела прежнего Майло, того, что надрывал ей душу, и ее испугало его лицо — оно было не хмурое, а такое, как в тот вечер на кухне у Мэри, — и надо было немедленно что-то делать. Надо было отвлечь внимание Фредерика на себя. Она нагнулась к корзине и начала оправлять на нем одеяло, и, как она и надеялась, Фредерик повернулся к ней и выпустил палец Майло. Только этого она и хотела, но Фредерик рассчитывал на большее, и, когда она убрала свои руки, он хныкнул, правда негромко, и подозрительно съежился. Розакок застыла. Она внутренне напряглась, готовясь к тому, что сейчас произойдет, но Мэйси за ее спиной все это видел. Он нагнулся к ее уху:
— Роза, бери его на руки. Он нацелился орать.
Она услышала его шепот (все вокруг услышали его и оцепенели), но не шевельнулась. Покачав головой, она одними губами сказала: «Фредерик, я не та, что тебе нужна» — и, вспомнив, где однажды она сказала эти самые слова, про себя добавила: «Но на этот раз я не могу сбежать».
Припев кончился. Майло отступил в сторону, и Розакок взглянула в глубь зала.
Да, она не могла сбежать, не могла. Мама в последний раз чиркнула спичкой и протянула ее к свече. Вспыхнул огонек, и внезапно появилось лицо — лицо Уэсли Биверса, обрамленное черным платком, покрывавшим волосы, в черном халате, запахнутом у самой шеи.
Горький запах смирны поплыл,
Он грядущее возвестил.
Тоска в ее глазах обозначилась еще резче, а Фредерик захныкал громче прежнего. Она подумала: «Держись, Розакок. Ты же свободна» — и хотела было нагнуться к Фредерику, но медленно шедший Уэсли был уже в шести шагах, и ее точно сковало то, что она видела, — одно только лицо, плывущее к ней среди восьмидесяти человек на скамьях, озаренное свечой, лицо, в котором сливалось все — и рухнувшие развалины, и новая жизнь, которую он сотворил.
Скорбь, напасти, муки, страсти,
Холод и мрак могил.
Ее голова откинулась назад, губы приоткрылись, словно на нее налетела смертоносная хищная птица, и все, кто смотрел на нее — Мама и Майло, даже Мариза Гаптон, и даже Рэто, — заметили, как она с трудом втянула в себя воздух.
А Уэсли, пропев свой стих и опустив глаза, уже подходил к корзине. Наклонившись, он положил свой дар (масленку с крышкой) и отошел к клиросу, и, когда зазвучал припев, он устремил взгляд поверх Фредерика на Роза-кок, словно преподнося ей свое лицо, свой настоящий дар, единственное, чем он, сам того не зная, всегда ее одаривал; но сейчас, сквозь шесть футов воздуха, оно было для нее как нож, острием приставленный к коже, — эти глаза, видевшие то страшное выражение ее лица на поляне среди стеблей бородача (ее тайна, а потом ее ненависть) и видевшие других женщин (одному богу ведомо, сколько их), которые лежали, как она, но делали для него такое, о чем ей даже не догадаться, и эти уши под черным платком, слышавшие «да» от всех тех женщин, и этот рот, ни разу не сказавший слова «люблю» — по крайней мере ей. Он не был мрачен, но и не радовался — она это ясно видела; он просто ждал. Он угодил в ловушку и сделал то, что считал своим долгом, — вызвался исполнить свой долг, и теперь ждал, что она ему ответит. Но не успела она отрицательно покачать головой и дать ему свободу, как в пение вклинился еще один голос. Это наконец разразился ревом Фредерик, и Мэйси, который видел только дрожавшую спину Розакок, наклонился и прошептал:
— Давай его сюда, Роза. Я же его отец.
Ей было так худо, что хуже не бывает. И она это сознавала. И все же нашла в себе силы сделать попытку переправить Фредерика к отцу — не для того, чтобы спасти представление, а чтобы спасти себя, не броситься вон из церкви и не закричать. Ей как-то удалось подложить под Фредерика обе руки, и тогда она наклонилась и подняла его. Но как только он очутился в воздухе, рев сразу же прекратился. Розакок понимала, что класть его обратно пока нельзя, и понимала, что нельзя передавать его Мэйси, слишком уж нелепо это будет выглядеть, и потому положила Фредерика между раздвинутых колен. Но Фредерик был длинным и вдоль колен не умещался, тогда он стал поджимать ножки, пока не улегся, как следует, а головку она держала на весу в ладонях. Он легонько потолкал ее пятками в живот, но в общем был, казалось, доволен, и Розакок приказала себе: «Смотри на Фредерика. Думай о Фредерике». И она стала думать помедленнее, чтобы протянуть время: «Тебя зовут Фредерик Гаптон. Ты четвертый ребенок Маризы Гаптон, и, насколько мне известно, тебе восемь месяцев, значит, ты родился в апреле. Ты довольно-таки длинный для своего возраста, но длинный ты главным образом за счет шеи. У тебя безусловно гаптоновская шея — есть люди длинноногие, а вы все — длинношеие, а глаза у тебя папины, и уши торчат, как у папы. Но волосы у тебя, бедняжки, от Маризы, черные и прямые, как палки. И на младенца Иисуса ты похож не больше, чем наш Рэто».
Но он на нее не смотрел. Он глазел по сторонам, поворачивая головку в ее ладонях, как сова, и Розакок не мешала ему, но не следила, куда он смотрит. И без того было трудно уследить, как перелетал этот важный взгляд от одного лица к другому с быстротой молнии, и ждать, пока придет ее очередь. Впрочем, какое-то время Фредерик разглядывал волхвов. Они допевали свое обращение к звезде.
Пусть далеко нас с Востока
Поведут твои лучи.
И когда они умолкли, Сестренка и ее ангелы выступили вперед и очень громко запели «Тихую ночь». Но они не заинтересовали Фредерика, и, когда они пропели две строчки, он перевел глаза на Розакок и потянул к ней ручонки, силясь приподнять голову с ее колен, и лицо его ярко зарделось от натуги. Сначала она подумала: «Фредерик, я не та, за кого ты меня принимаешь» (имея в виду Маризу). Но руки тянулись к ней, и пальчики его шевелились, и он все пытался поднять голову; тогда Розакок нагнулась и притронулась щекой к его щеке — его была теплее, — и, подняв голову, почувствовала странный запах. Она старалась понять, чем это пахнет, и почему-то ей представился Лендон Олгуд, спящий в июльский день на скамье в церкви «Гора Мориа», и копающий могилку пять недель назад, и только недавно поковылявший обедать к Мэри с половиной Маминого остролистника в качестве уплаты за еду, Лендон, который явится к ним на рождество, как раз в годовщину того дня, когда он отморозил пальцы на ногах. Она опять наклонилась, уже не так близко. И поняла, что это такое — запах шел от Фредерика. Его дыхание благоухало перегориком, и по всем правилам он никак не должен был проснуться (даже сейчас глаза у него были усталые). Но ручонки тянулись к ней. Он хочет, чтобы она взяла его на руки, это совершенно ясно; Розакок вспомнила, как Мэри сказала про Следжа, что «ему только плечо подавай», и, уступая Фредерику, подняла его и прислонила к плечу, думая: «Так он будет видеть своего папу, и станет спокойнее, и, надеюсь, уснет». Но Фредерик не пробыл так и десяти секунд. Его по-прежнему ничуть не интересовали ни ангелы, ни даже огоньки их свечек, и головка его, тяжелая, как пять фунтов зерна, опустилась к ней на грудь. «Слава тебе господи, засыпает», — подумала Розакок и рукой приподняла его подбородок. Но не такой уж он был сонный и сумел показать, что это ему не нравится. Он опять стал клонить головку вниз — на этот раз медленнее, — а Розакок, дав ему волю делать что хочет, взглянула разок поверх сидящих на скамьях в темноту, где была невидимая Мама, но не стала всматриваться и думала только о том, какой он тяжелый, этот Фредерик (и с каждой секундой все тяжелее), и чувствовала, как его тепло проникает сквозь одеяло и голубой батист к ее захолодевшему боку, но вскоре и Фредерик, и она сама, и баптистская церковь «Услада», и все, кто в ней был, отошли куда-то далеко, и в голове ее стало легко и пусто, как никогда еще с тех пор, когда на краю поляны, заросшей метелками бородача, она средь бела дня увидела оленя, который высунулся из кустов, глядел на них и чего-то ждал (пока Милдред не вскрикнула: «Боже милостивый!»), а потом исчез, прошумев листвой.
![Франсин Риверс - Воин [The Warrior]](/uploads/posts/books/270045/270045.jpg)
![Франсин Риверс - Воин [The Warrior]](/uploads/posts/books/270188/270188.jpg)
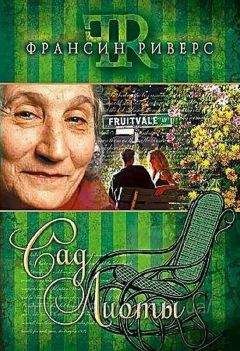
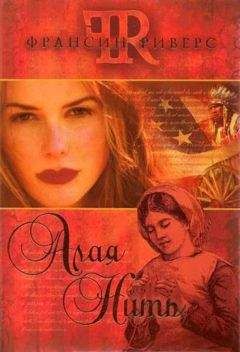
![Франсин Риверс - Царевич[The Prince]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)