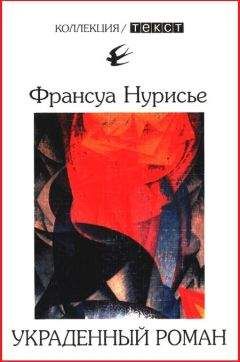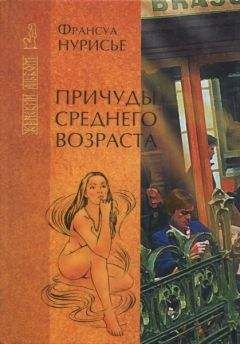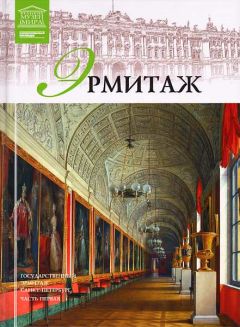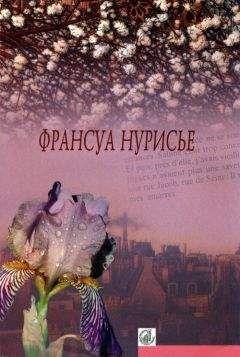Франсуа Нурисье - Хозяин дома
Я настоял на том, чтобы проводить их до Авиньона, вернусь оттуда в такси. Дурацкое мотовство, лишние расходы нам совсем ни к чему. Но я уперся на своем. Так что распрощались мы на Площади часов довольно коротко и сухо — к этому стилю я сам долго приучал своих (успех превзошел все мои ожидания!). А во мне на этот раз поднялась такая растерянность, такое смятение. Или — просто и глупо — такая печаль. Но ее невозможно ни высказать, ни подавить. И хоть как-то ее обнаружить тоже было бы дурным вкусом. Догадываюсь: Женевьева все это чувствует, на лбу ее вздулась синяя жилка, руки слишком спокойно лежат на баранке руля. «Пежо» уносится прочь по дороге, ведущей к древним крепостным стенам, и тут все, что подспудно копилось во мне долгих два месяца, прорывается наружу, снося мои плотины и запруды. А что это «все»? В голове мечутся слова: «бессмыслица», «молчание». В них тоже не очень-то много смысла. Вспоминаю тот вечер, три месяца назад, когда мы вернулись домой и застали собаку в параличе. Какие напасти, какие удары и утраты ждут меня сегодня вечером?
Пойду бродить по улицам, среди городского шума и влажной духоты. Как можно дольше буду оттягивать час еды. Под конец с горя зайду в бистро, где можно закусить жареным картофелем и лепешкой, запеченной с луком и помидорами. Выпью целую бутылку здешнего рыжего вина, которое мигом бросается в голову. И потом, разгоряченный, опять пущусь в погоню за призраками. После шести, когда пустеют конторы и магазины и походка у людей становится по-вечернему неторопливой, я тоже начну двигаться по-другому, не спеша, выбирать тротуары, площади, террасы, смотреть в упор и криво усмехаться — стану подыскивать девицу, позволю себе это развлечение — делать вид, будто я охочусь на девиц. Долгая, нескончаемая игра… Будет поздний вечер. Улицы опустеют, потом снова оживятся. Закончатся сеансы в кино. Но никакой девицы я, конечно, не подцеплю. Такие охотники, как я, всегда остаются ни с чем. Тогда я вернусь к вокзалу, забьюсь в угол такси (восемьдесят километров но ночной расценке) — машина будет взбираться по склону Англя, в открытые окна заструится запах листвы и ночи, а во мне все громче станут звучать голоса протеста и насмешки. Быть может, голос гнева и бессилия даже вырвется наружу? И тогда таксист через плечо ехидно или хмуро, смотря по характеру, покосится на пьяницу-пассажира и подумает — хоть бы в карманах у пьяницы нашлось чем заплатить за поездку.
Не так-то просто судить о человеке! Вот послушайте. Как-то Мартинес говорит моему зятю: обогнал, говорит, я его на плато, за поворотами Пон-Сен-Жан, он делал сорок километров в час и даже не мог удержаться на прямой, так и вилял справа налево, уж не знаю, как он вообще вел машину! Ну вот, и в тот же день, а может, назавтра, Рожиссар уверял, будто тот запросто обогнал его на своем «пежо». Другой бы на такой скорости врезался — только мокрое место бы осталось. У Рожиссара, надо вам сказать, машина — игрушечка, в самом лучшем виде. И не забудьте, до войны он был у Ситроена испытателем, пробовал новые марки. И он мне сказал — тот, мол, вел машину как бог! Кто-кто, а уж Рожиссар в этом толк знает. Вот и разберись, то он гонщик-чемпион, то размазня какая-то… Вы мне поверьте, чтоб такое с человеком стряслось, он должен сам себя невзлюбить. Признайтесь, трудно к малому хорошо относиться, ежели он вроде и сам себе противен…
Все словно бы начинается в кончиках пальцев, можно подумать, будто в них затаился и только ждет минуты для нападения паралич или какая-нибудь болезнь костного мозга, из тех, что постепенно сковывают вас неподвижностью. Вот и примеры.
Газетный киоск. Левой рукой придерживаешь под мышкой сверток — только что отобранные журналы. Правой достаешь из кармана деньги, встряхиваешь на ладони — да, хватит. И пытаешься двумя пальцами, большим и указательным, отделить и высыпать на прилавок нужные монеты. И тут пальцы перестают слушаться, суставы не гнутся либо повинуются так неловко, неуверенно, что скоро сводит уже всю кисть, даже предплечье, рука отдергивается, и продавец, кажется, смотрит с нетерпением и жалостью. А ведь когда-то руки были такие быстрые, гибкие, ловкие. «Лапы у тебя цепкие, как у обезьяны», — говорила мама. И вот надо поневоле отказаться от этой затеи (другим покупателям наскучило ждать), кладешь газеты на стойку, пускаешь в ход обе руки, копаешься в монетах, точно старуха, и все это с непомерной досадой, так что скоро руки трясутся уже чуть не до самых плеч и на лбу проступает пот.
Собачья моча, дерьмо, всякая раздавленная мерзость, столько всего налито и намусорено по тротуарам и вдоль стен… даже непонятно, как набираешься храбрости вечером снять башмаки, тронуть их руками, представляете? Ходишь по плевкам, по мокрицам, по жевательной резинке и еще бог весть по какой дряни, все это липнет, мажется, воняет, а запахов хватает и без того — несет бензином, человечиной, потом… От земли и то идет вонь. Под ногами сырость, скользко, или и вовсе нога увязает, и кажется — сейчас провалиться в яму, да так там и останешься, будешь задыхаться, пока не помрешь. Вот вы поймите, каково тут помирать: обычно забываешь, что у этих людей в памяти, когда они твердят — там, мол, жить стало невыносимо. Невыносимо — вроде пустое слово, ничего не значит. Так его и слушаешь вполуха. Нет, мосье, надо поехать да поглядеть своими глазами, что это такое — этот самый ихний город. Нам-то кажется, мы тоже это знаем, ведь иной раз летом в субботу скатаешь в Монпелье, в Ним, и уж так намучаешься — ой-ой! Просто взвоешь. И правда, бывает, натерпишься в разных канцеляриях, пока ждешь, сто раз бросит в пот, а после свернешь в переулки, там попрохладней, но, между нами говоря, и прохлада какая-то не та, будто на кладбище! Все впрозелень, гнилое, нездоровое, проходишь мимо дома, а из дверей тебя вроде как нечистым дыханием обдаст — и мочой пахнет, и прокисшим кофе со сливками, и плесенью, да еще малышня шныряет под ногами — гоняются друг за дружкой, рваные, полураздетые, визжат. В общем, нам-то кажется, мы все это знаем. Только настоящий город, мосье, Марсель, Париж, да в июле месяце — это надо испробовать на своей шкуре. Я вам как-то говорил, меня приглашали на съезд агентов по продаже недвижимости, и пошли мы вечером целой компанией в Сен-Жермен-де-Пре. Там были молоденькие девочки, незамужние, им хотелось поразвлечься. Но что творилось на улицах — не описать! Всюду пробки, одни машины застряли, другие в них уперлись, третьи пробуют извернуться, объехать, а морды — вы бы поглядели! Уж до того злобные! Каждый убить тебя готов, придушить, за человека тебя не считает, вот-вот в глаза плюнет, а за что? Зачем ты мимо идешь да еще увертываешься от ихних бамперов да от выхлопных труб. Дым, вонь — за глотку берет и наизнанку выворачивает… Многие там держат собак — породистых собачонок в ошейниках, на поводке, так даже не знаю, как эти несчастные зверюги не сдохнут: кругом колеса, бензин, шум — все равно как в печь кидают живую тварь, бойня, стыд и срам! Меня прямо жалость взяла. А еще говорят — Париж, Париж! У меня всегда язык чешется сказать — а вы, мол, поезжайте да поглядите, что это за штука — Париж. Посмотрим, в каком виде вы оттуда вернетесь. Ну и лица там у людей, мосье! Какие-то старые, страшные. Чего ж тут удивляться, ежели они, как бы это сказать, не брезгуют никакими средствами. Им наркотики нужны, чего уж там! Подхлестнуть себя, одурманить. А то и держаться печем. А потом нервы сдают — тоже ничего удивительного. А тогда крышка, все от них отворачиваются. Красиво это, по-вашему?
Я на почте, кладу свои письма на весы для посетителей — надо только перегнуться к ним через стойку. Теперь я знаю, на какие конверты надо наклеить обычные марки, а на какие, с весом сверх нормы, — более изысканные: изображение собора или портрет художника-импрессиониста. Отодвигаюсь подальше от посетителей, которые выстроились в очередь, кладу письма на наклонную доску (обычно она служит подставкой для телефонной книги), сую перчатки в карман — от всех этих движений я уже выдохся, я зол и утомлен, точно на меня навалилась непосильная ноша. Из другого кармана достаю бумажник, из бумажника прозрачный футляр; туда вложены марки, я накупил их заранее и по отдельности, и целыми книжечками, чтоб не приходилось подолгу ждать у окошка, и они почти совсем закрывают мои водительские права. Надо засунуть палец под пластик, извлечь марки, сосчитать, согнуть листы по дырчатым швам, оторвать марки, наклеить одни туда, другие сюда, на некоторые конверты по две и по три, и при этих последовательных операциях пальцы мои постепенно немеют, становятся неповоротливыми, и уже грозят разные катастрофы: книжечка марок застревает, зацепившись за металлическую скрепку, которая придерживает на водительском удостоверении мою фотокарточку (на этом фото я выгляжу плешивым забулдыгой); разрозненные марки скользят меж пальцев; рвется марка со святым Людовиком — пропали франк шестьдесят сантимов; наспех сунутая бумажка в сто франков торчит наружу, сейчас она зацепится за мой карман и порвется так, что пострадает номер, а то и вовсе потеряется, и пойдут бесконечные пересчеты и проверки, и я в бешенстве решу, что меня наверняка надула кассирша в магазине стандартных цен. И в это же время большой палец правой руки — краешек возле ногтя, что ороговел почти до прозрачности и пожелтел от табака, — вдруг теряет всякую чувствительность, кажется, он наотрез отказывается мне служить. Меня кидает в жар. Честное слово, можно подумать, что эту печку, установленную посреди почты, натопили до белого каления. Сам не знаю, отчего кровь бросилась мне в лицо — нездоровится ли мне, или стыдно собственного тела, которое меня так бессовестно предает, или тут виноваты суетливость, упрямство, одышка, что овладевают мною всякий раз, как я снова и снова убеждаюсь: мир вещей мне враждебен, они не желают мне повиноваться.