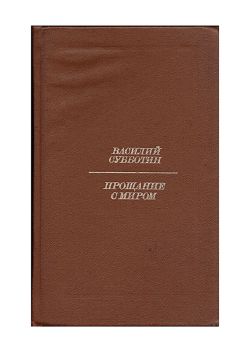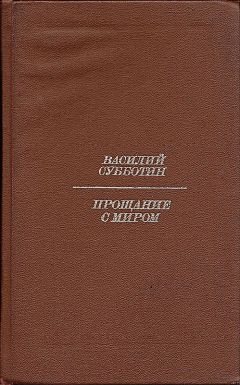Павел Загребельный - Долина долгих снов
Теперь уже профессору легко было расшифровать надпись. Внешние очертания щита точно повторялись в самом центре надписи, а сами иероглифы шли, как теперь нетрудно было увидеть, не по вертикали, не по горизонтали и вообще не по прямой или ломаной линии, а по кругу, огибая со всех сторон и заполняя изнутри этот цветок, облачко или листок лотоса.
На щите было написано:
«Не стоит прыгать в воду, когда чёлн ещё не перевернулся. Но чёлн моей жизни уже шатается над бездной вечности, и потому я решил сказать о том, чего никто не знает. Я проткнул в уши слов китайские украшения и индийские жемчужины, чтобы читатели знали, что в оснащении нет недосмотра, а в положении нет слабости, а помощь и содействие небесных сфер, именем которых и называются цветы. Об этом же говорят и стихи:
Белые цветы
В горах Цун-лина
В этот год
Ещё пышнее стали.
Насбирай их
Полные корзины
И утешь меня
В часы печали.
Эти цветы прекраснее и белоснежнее хризантем, а растут они в долине Подковы, которая лежит на две тысячи чжанов[1] ниже Великой горы Цун-лина. Это я говорю, Сюан-цзян, великий путешественник и калиграф царства Ся. Долина Подковы укрыта снегами в сторону Солнца и Великой горы, а Великую гору можно заметить только с горы Царей. Цветы Неба дают свои соки в конце лета, и от напитка, который готовят белые братья, мужчины спят по пять лет, а женщины — по четыре. Много будет когда-нибудь слухов о цветах Неба в Небесных горах, но лучше один свидетель, нежели десять тысяч слухов. Есть стихи:
О Яшмовых храмах,
О море снегов необозримом,
О солнце горячем,
О цветах, умытых росою,
Лишь тот расскажет вам,
Кто в горах попробовал горя,
Кто в ночи холодные
Звёзд касался рукою.
В долину Подковы нет пути. Я пришёл туда один. Спутники мои погибли, я тоже едва не погиб, так как отказался от напитка забвения. Белые братья послали за мной в погоню смуглых воинов, но смуглые испугались холодных снегов, которых мы достигли на пятый день, и отстали от меня. Я же снова возвратился домой и увидел своих друзей.
Я оставляю после себя щит — Знак, а также цветок — Знак. И пусть смелые попробуют достичь долины Подковы с Яшмовым храмом, где растут цветы Неба».
После этого профессор Бойко потерял покой. Он был уверен, что та страна, о которой писал на щите великий китайский путешественник Сюан-цзян, действительно существует и ещё до сих пор никем не открыта. Он знал, что несколько тысяч лет тому назад горами Цун-лин в Китае называли современный Тянь-Шань, поэтому страну с цветами Неба следовало искать на Тянь-Шане. Долина Подковы, как утверждал Сюан-цзян, находится где-то между горой Царей и Великой горой, которые, очевидно, являются не чем иным, как высочайшими вершинами Тянь-Шаня — пиком Победы и Хан-Тенгри. Таким образом, поиски ограничивались пока только этим районом. А если знаешь, что искать и где искать, то всегда найдёшь.
Два лета, во время отпуска, профессор Бойко ездил на Тянь-Шань. Он никому не говорил, что хочет найти в горах: боялся, чтобы над ним не смеялись. Он по неделям пропадал где-то в самой зоне снегов, возвращался на турбазу утомлённый, обессиленный, но, отдохнув несколько дней, снова брал с собой проводников-киргизов и отправлялся в горы. Ночью, у костров, он слушал легенды, которые ему рассказывали киргизы, но ни в одной из них не находил даже намёка на существование долины, в которой живут неизвестные никому люди.
В университете над профессором потихоньку посмеивались. Его считали старым чудаком и не больше. Как вдруг этим летом, во время каникул, трое студентов третьего курса, которые работали с профессором над древними рукописями, никому ничего не говоря, поехали на Тянь-Шань. Они поехали туда как туристы, но из Пржевальска Максим Кочубей написал Ивану Терентьевичу письмо, в котором сообщал профессору, что они хотят продолжить начатые им поиски и будут счастливы, если удастся доказать правдивость предположений их любимого учителя.
Получив письмо, профессор немедленно телеграфировал начальнику турбазы Тюйрюк, требуя, чтобы тот запретил его студентам эту опасную экспедицию, но телеграмма пришла слишком поздно; Дмитрия, Максима и Поли уже не было в лагере.
Студенты, намаявшись в горах, спускались вниз, подавленные неудачей, когда случайно встретили Увайса. Они рассказали ему, что ищут цветы Неба, и мальчик охотно согласился проводить их в высокогорную пещеру, где были какие-то цветы, о которых ему рассказывал его дедушка Токтогул. В прошлом году Увайс побывал в той пещере вместе с дедушкой, потому что, как говорил старик Токтогул, каждый батыр должен хотя бы раз в жизни добраться до пещеры с чудесными цветами на её стенах.
И вот теперь круг замкнулся. Максим и Поля увидели наконец цветы Неба, но узнает ли об этом кто-нибудь?
Дмитрии Петрюк возвращается в Киев
Петрюк сидел у приёмника и крутил ручку вариометра. Он приходил в чайхану с утра, заказывал себе завтрак, пил чай, потом садился к радиоприёмнику и начинал искать музыку. От этой музыки у чайханщика Ибрая Абдумомунова уже гудело в голове, но законы гостеприимства не позволяли даже намекнуть на то, что приезжий надоел хозяину, и поэтому Ибрай вынужден молча слушать и отчаянную трескотню, и хор Пятницкого, и оркестр Утёсова, и концерты скрипачей, от которых чайханщика клонило ко сну. В конце концов он не так беспокоился о собственной голове, как о приёмнике. Этот небольшой ящичек из полированного дерева Ибрай включал только для особо уважаемых посетителей, он берёг его, как берегут в колхозе чистокровных скакунов, а тут вдруг драгоценный радиоприёмник заставляют работать двенадцать часов в сутки! Чайханщик попробовал схитрить. Он подошёл к Дмитрию, изобразил на своём лице величайшее удовольствие, которое он, мол, испытывал от слушания беспрерывных концертов, и сказал:
— Товарищ инженер (неизвестно почему, он решил, что Петрюк инженер, и упорно называл его этим именем), дорогой товарищ инженер! Может быть, ты выпьешь чашечку чаю с ферганским урюком? Мой знакомый только вчера приехал из Маргелана, привёз хороший урюк. Золотой урюк!
Но Петрюк совсем не испытывал желания объедаться урюком, пловом или гошкийдой. Он был точен, как часовой механизм. Завтракал в девять, обедал в четыре, а вечером пил чай с санзой. Он объяснил чайханщику, что жевать целый день — вредит здоровью, что у него есть режим и что он, Петрюк, больше всего заботится о том, чтобы соблюдать этот режим.
— А музыка — тоже режим? — осторожно спросил Ибрай.
— Музыка — это от скуки. Понимаешь, что такое скука?
Ибрай этого не понимал. С самого своего рождения он не помнил ни одного дня, когда бы оставался без работы, а человек, занятый делом, никогда не скучает.
— Разве ты можешь это понять? — махнул рукой Дмитрий. — Я жил в большом прекрасном городе, а сейчас попал в такую дыру.
— Дыру? — удивился Ибрай. — Ты говоришь, наш аил — дыра? А ну, прекрати, пожалуйста, музыку. Не крути так ручку, а то испортишь приёмник. Я за него расписывался.
— Ах, подумаешь, какая большая ценность! — презрительно воскликнул Петрюк и так покрутил что-то в приёмнике, что тот только задребезжап.
Ибрай медленно приблизился к Дмитрию и, заложив за спину руки, остановился в трёх шагах от «любителя» музыки. Он был очень высокого роста, Ибрай Абдумомунов. Старенький фронтовой китель едва сходился на могучей груди чайханщика, а его ноги в широких лёгких шароварах, заправленных в мягкие, как чулки, сапоги без каблуков, упирались в пол чайханы, как каменные колонны. Ибрай мог бы вышвырнуть вон отсюда этого сухоносого «инженера», как котёнка. Он мог бы сказать ему несколько таких язвительных слов, что тот не знал бы потом, куда деваться от стыда. Ибрай мог бы разгневаться, покраснеть, раздуть ноздри своего короткого, но крепкого и красивого носа. Но он помнил, что хозяин не имеет права оскорблять гостя. Достаточно уже того, что он, Ибрай Абдумомунов, потерял на минуту терпение и, кажется, наговорил грубостей. И потому чайханщик молча стоял перед Петрюком, надеясь, что тот сам поймёт нетактичность своего поведения.
В это время зашёл в чайхану старик Токтогул.
Он был в своей чабанской меховой шапке, в которой его привыкли всегда видеть в аиле, широкие плечи облегал тот самый старый ватный чапан, который защищал плечи Токтогула и в прошлом и в позапрошлом годах. Всё так же задорно, как всегда, торчала на лице старика белая редкая бородка. И лицо у Токтогула было такое же невозмутимое, спокойное, чёрное от горного солнца и ветров, без единого грамма лишнего мяса на острых скулах.
Но в глазах у старого Токтогула было столько тревоги, растерянности и скорби, что Ибрай, забыв о всякой сдержанности и чинности в разговоре с таким почётным посетителем, как известный на всю Киргизию чабан, воскликнул: