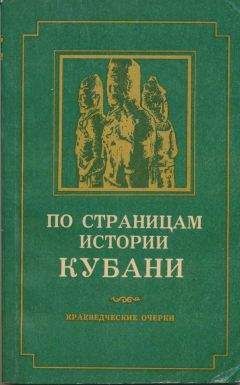Музафер Дзасохов - На берегу Уршдона
XXV
У Нана кончался мед, и она обеспокоилась. Все воскресенье напрасно прождала Алмахшита, тот не приехал. А ей без меда никак нельзя.
— Письмо надо написать, — сказала она. — Если и в следующее воскресенье не приедет, без лекарства останусь.
Я взял бумагу и карандаш.
Нана бормочет, сама с собой разговаривает вслух:
— Как они там живут? Хватит ли на зиму кормов, один Бог знает… В это время обвалы, как сено привезешь? Опасно. Не стоит скотин, а тех мук, которые человек из-за нее терпит!
Я сижу с карандашом и жду.
— Как они там управляются?.. Небось думают, когда старуха вернется?
— Что писать? — спрашиваю.
— А тебя учить надо? Гаги увидеть хочется… (Так она Алмахшита называет — Гаги.) В воскресенье, пиши, обязательно пусть приедет… Про мед не забудь. Скажи, мы живы-здоровы. Не то будет беспокоиться… И спроси, как здоровье его детей, как соседи?
На этих соседей я и сейчас сердит. Я тогда совсем маленький был, когда жил в горах. Соседская женщина поддразнивала меня: говорила, вздыхая, что Нана не в эту зиму, так на следующую помрет. Не знаю, зачем было ей меня дразнить?
«Не помрет!» — твердо отвечал я.
«Помрет! Обязательно».
«Нет, не помрет!»
Я ненавидел эту женщину, мне плакать хотелось, но плакать не смел. И все же представился случай выплакаться. Мы играли в альчики с соседским мальчишкой, бита выскользнула у него из рук и с маху ударила прямо мне в голову. Я заплакал навзрыд — не столько от боли, сколько от отчаяния и обиды, которые мне причинила соседка.
Она же меня и утешила, вытерла слезы и сказала:
«Не плачь, Нана не умрет».
«Да, не умрет… Умрет!»
Я плакал, не переставая. Чем настойчивее меня уверяла соседка, тем меньше я верил. И твердил в страхе и отупении:
«Нет, умрет, нет, умрет!..»
Голова совсем не болела, даже шишка не вскочила. Но я схватился обеими руками за голову и никому не позволял к ней притронуться. Пусть думают, что плачу от боли.
Письмо я вложил в конверт, написал адрес. Если оно запоздает, Нана придется нелегко. Правда, и молоко помогает, но наши коровы еще не отелились, а у соседей каждый день не станешь просить.
— Дунетхан! — ворчливо позвала Нана.
— Чего тебе?
— Вот наказанье, так наказанье!..
Когда она так говорит, значит, ей что-то не понравилось. И не просто «что-то», а то, о чем много раз твердила. А все без толку — настоящее наказанье!
Дунетхан потерянно огляделась по сторонам: в чем же опять провинилась? Может, угли не замела возле печи, когда высыпались? Может, за это старуха ругает?
— И говоришь, и говоришь ей одно и то же — и как об стенку горох! — ворчит Нана.
Дунетхан все углы обшарила глазами, уже и самой себе не верит: вдруг что-нибудь вправду натворила!
— Сколько раз просила: не трогай мои чувяки! Стоят на коврике — пусть стоят! Куда ты их опять засунула?
Дунетхан быстренько юркнула под кровать и поставила чувяки на коврик.
— Еще раз не найду на месте — ох, не знаю, что с тобой сделаю!
И стала одеваться. Даже постель сама убрала. Когда ей бывает лучше, она встает, убирает постель и садится возле печи. Я радуюсь за нее, в такие минуты и нам хорошо. Еще бы не радоваться!
Позавчера Хадижат выстирала и перегладила все платья Дзыцца. И туфли ее вычистила. Вещи сложила на кровати, на которой Дзыцца спала. Только рабочий полотняный халат с большими накладными карманами Нана заставила убрать: он Дзыцца и при жизни надоел.
— Несите-ка вещи сюда!
Бади выложила вещи на стол. Вон фиолетовая шелковая кофточка Дзыцца. Как она была ей к лицу! Но редко ее надевала… В этой кофточке Дзыцца казалась мне еще мягче, еще добрее. Черная юбка ей тоже очень шла. Да только на похороны надевала ее Дзыцца. Были и коричневые остроносые туфли, всегда стоявшие в углу у порога. Красиво все было на Дзыцца, все ей было к лицу, и хоть нечасто я видел на Дзыцца все эти вещи, но запомнил их навсегда. Я и в толпе узнал бы Дзыцца по этим вещам.
Теперь они осиротели, остались без хозяйки…
— Кофту подай! — сказала Нана.
Развернула, долго рассматривала на вытянутых руках на свет и против света. Белые, худые пальцы дрожали.
— А совсем еще новая… — Посмотрела с изнанки И удовлетворенно сказала: — Ни одной дырочки! Еще носить бы и носить… По обычаю, вещи умершей принято дарить хорошим подругам. Отнесите Хадижат, лучшей соседки не было у Дзыцца. Отнесите! — свернула кофточку и отдала Дунетхан. — И туфли ей отнесите. Много хорошего она вам сделала. Пусть Дзыцца и с того света ее одарит…
И другие вещи Нана распределила между нашими родственниками и соседями: пусть носят хорошие люди то, что Дзыцца любила.
Я порой удивляюсь Нана. Больна, немощна, еле ходит, а сколько в ней рассудительности: кажется, все на свете она знает и умеет.
Недавно ее спрашиваю:
— А ты всегда такая была? Ну, вот такая… худая?
Нана улыбнулась, лицо посветлело.
— Конечно, не всегда!
Сказала это и закрыла глаза. Лицо приняло обычное выражение.
— Годы берут свое… Другая давно была бы на том свете. А ты спрашиваешь! Нет, совсем я не такая была! — И показала в окно: — Ну-ка вытащи шесть кольев из того плетня — будет ли он стоять?
У Нана было шестеро детей. Пятерых выкормила, вырастила. Последний, шестой, умер еще во младенчестве. Легко ли ей было без мужа, одной?
Дзыцца была второй по старшинству среди братьев и сестер, и, когда старшая сестра вышла замуж, все домашние заботы свалились на ее плечи. Алмахшит часто вспоминал то время:
«Клянусь, я бы на ее месте пропал! Помню, мороз трещит, на дворе еще темень… Спать хочется. А Дзылла лошадь запрягает, за дровами в лес собирается. И ведь девчонка, только на шесть лет меня постарше!..»
Алмахшит приехал раньше, чем письмо дошло. Мы не ждали среди недели. Нана так и засияла, увидев его на пороге. Но тут же и отвернулась: почему, дескать, в прошлое воскресенье не приехал? Обижена на тебя! А Бади и Дунстхан повисли на дяде, визжат от радости.
Теперь Нана долго ждать, пока девчонки нарадуются. Да что сделаешь! Не выдержав, Нана поворачивает голову на подушке:
— Впустили бы в дом человека! Устал с дороги, а вы на руках у него повисли… Не до ваших шуток!
А сама ух как довольна! Лежит с таким видом, будто медведь угодил в ее капкан и никуда теперь не денется.
— Ну, как тут вы все живете? — освободившись наконец от девочек, спросил Алмахшит.
Нана отозвалась равнодушно:
— Так вот и живем.
На Алмахшита даже не взглянула. Не хочет, чтобы видел, как рада ему.
Молчала, молчала, потом, оттаяв, сказала укоризненно:
— Пропал где-то, как тот конь поповский!
Что это за поповский конь?.. Я потом спрашивал Нана, но она не объяснила. А мне очень хотелось узнать. Как могла пропасть лошадь, что найти нельзя? И при чем тут поп? Какая разница — поповская или еще чья-нибудь?
— Хотел в воскресенье приехать, — подсаживаясь к Нана, сказал Алмахшит, — но месяц кончался, надо было план выполнять…
— Не нравится мне твоя работа, Гаги! С кем начинал, те давно разбежались. Поумней тебя. Уходи ты с этой работы, пока на ногах держишься.
— Ничего со мной не будет!
— «Ничего не будет, ничего не будет!» — передразнила Нана. — Калекой останешься — о детях подумал бы.
Всегда у них разговоры об одном и том же. Хватит, говорит Нана, поработал на руднике одиннадцать лет. Пусть теперь другие, помоложе работают. Алмахшит почтительно выслушивает и обещает:
— Еще поработаю немного и уйду. Подыщу место…
И верно, ушел однажды. Но упросили вернуться: без опытного мастера, сказали, дело не идет…
— На следующей неделе привезу надгробье и металлическую решетку на могилу Дзылла. Один человек пообещал сделать, — сказал Алмахшит.
При упоминании имени Дзыцца слезы навернулись мне на глаза, я всхлипнул.
— Ну вот, начинается! Хуже девчонки!
Алмахшит тоже учащенно моргал, отворачивался.
— А еще женить его хотели! Глядите на него — опять у него квас из носу…
Уши у меня вспыхнули. Кроме Гажмата, со мной еще никто об этом не говорил. А теперь вот и Нана — да напрямик… При Алмахшите!
— Ты не только жену слезами зальешь, тебе ее фотографию жалко дать в руки, всю замочишь…
Я поперхнулся и проглотил соленый комок. Что это я в самом деле все кисну! Мне сделалось стыдно. И поэт Коста Хетагуров говорил: «Кого я слезами утешу?»
Никого. И не хочу, чтоб видели мои слезы. Что хорошего, когда сердце такое слабое… Наверно, зря я вчера рассердился на колхозного сторожа.
Наши гуси забрались в пшеницу. Хадижат проходила мимо, выгнала их с поля, а сторож тут как тут. Взял хворостину и погнал к амбарам. Штрафом грозил! Хадижат стала упрашивать:
«Пожалел бы сироту! Мать у него недавно умерла…»