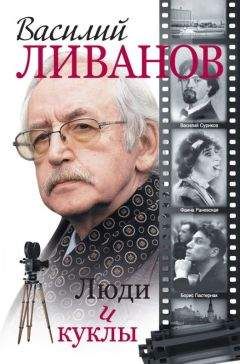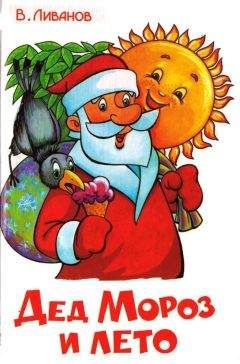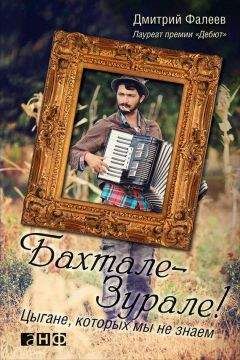Александр Ливанов - Начало времени
Я, мальчишка, но хорошо понимаю великодушие Василя. Правда, не любит Василь сделать что‑то задарма. Не повидал он мира, как Симон, живет по законам деда и отца. Привез наше жито с поля — пятый сноп отдай, не греши. Если богатый Терентий ничего задарма не делает, Василю сам бог велел брать плату за свою работу, за волы и воз. Как все, так и он. Берут на селе снопами ржи, мерками зерна или кусками полотна. Наконец, расплачиваются отработкой. Это все считают куда надежней денег. Даже заезжий барыга Турок — и тот знает мужицкое недоверие к деньгам, посеянное гражданской войной. Каких только денег не было: царских, керенок, петлюровских, гетмановских, деникинских… Точно мусор, развеянный ветром, исчезали эти разномастные бумажки вслед за правителями. И долго еще к советскому карбованцу с серпом и молотом, с подписями наркомфина, государственного казначея и даже кассира, мужики относились с прежним недоверием, предпочитая ему пуды, мерки, куски.
Василь не только работящий, он серьезный мужик!
Мать не нахвалится им. И вот другая, нынешняя уже, мысль: отец не ревновал мать, целыми днями пребывавшую с Василем или Симоном в поле. И это несмотря на то, что изводил ее ревностью к давнему прошлому, к врачу военного лазарета. Видно, надежны у мужика понятия о морали, о нравственности…
Весело мне в эти дни. Андрейка и Анютка почти весь день играют со мной, потому что Василь, их отец, работает на нашем току. А завтра отец и Василь опять «на пару» будут молотить рожь во дворе у Василя; потому что «дружно не грузно, а один и у каши загинет». Двумя цепками, небольшим уступом, друг за другом будут они двигаться от края к середине тока. «Бух–бух, бух–бух». Ни одного пустого движения, все ладно, все красиво, проворно. Сперва удары глухие, пружинящие, затем — чище, явственнее звук. И снова цеп сменяется граблями, дабы вспушить, перевернуть рожь другой стороной, чтоб ни один колосок не остался необмолоченным. Уложить развязанные снопы на току — тоже искусство: вершиной снопы все смотрят в одну сторону, срезом — в другую.
В теплом воздухе — звон жаворонков. Важно перекликаясь, потянулись к церкви галки. Там, в рощице, их гнездовье. Полугодовалый телок, пощипавший досыта повители, свернувшись клубком, лежит под нашей грушей и сонно косится на сторожащий его колышек. Веревки не видно, она вся утонула в траве. Лишь когда слепень укусит бурого телка, он, вздрогнув, мотанет лобастой головой, и веревка, как змея, выпархивает из травы. Бурый телок — поповский. Хоть и рожки только–только обозначились на его темени, он шустро бодается, и я к нему не подхожу.
Переломив прутик, я им, как цепом, тоже работаю на току: «Бух–бух!». Я стараюсь изо всех сил и рад, что отец и Василь заметили мои старания.
Мне нравится рожь, правится ее тускло–золотая солома. Особенно нравится низ снопа, след среза серпом. След этот мне напомипает аккуратно подрезанную стреху у новой крыши и еще — соты для маленьких–маленьких, воображаемых мною пчелок.
…Довелось мне, спустя года, поработать на оживленном колхозном току, где цепа уже не было и в помине, где гудели на всю округу две молотилки — «Коммунар» и «Эмка тысячу сто», приводимые в действие локомобилем и трансмиссией. (Чего стоил, скажем, один лишь центробежный регулятор на локомобиле! Я мог часами смотреть на сходящийся и расходящийся, мелькающий круг его шаровых грузов!) А вот же — не заслонила, не стерла из памяти невиданная техника тридцатых годов патриархальную прадедовскую молотьбу цепками в двадцатых годах. И один день такой мог подарить много радости.
Помню жару и заливавший глаза пот, кисловато–терпкий вкус кваса и прохладу погреба, куда мы — я, Андрейка и Анютка — прячемся от жары. «Бух–бух, бух–бух», — доносится в погреб. Здесь темно, много серых, земляных лягушек, но как живительна прохлада погреба! С каждой ступенькой вниз прохлада ощутимей. А там, собственно, в арочной нише погреба даже зябко. Чудеса! Мать просит не допросится у отца вырыть погреб. А у отца знай свой резон: «Наша сметана и так не прокиснет». Мать предается несбыточным мечтам о корове. Она смотрит на меня и вздыхает: «Малый без молока растет».
Василь хороший хозяин! Как и Симон, он жадный до работы. Василь посостоятельней. Есть у него корова, овцы. А про добрых, рябых и широкогрудых волов и говорить не приходится. Когда на возу, запряженном этими степенными и сонными волами, Василь выезжает в поле, все мужики с завистью смотрят ему вслед. Больше всех, пожалуй, завидует Симон. Ох, непростое соседство Василя и Симона! Хоть и помогают во всем друг дружке, но глаз каждого востер, все присматриваются, все приглядываются: не опередил бы в чем сосед. Что один сделает, уже и другой делает, один раздобыл — другой тянется за ним. Особенно не уступает Симон Василю, если дело неденежное; все сделает своими руками: и погреб выроет, и овин поставит, и стан ткацкий сработает. Отец наблюдает поединок соседей, ухмыляется. Как‑никак хозяйство Симопа поскуднее, а Василь мужик крепкий, и денежка водится у него. «Куда конь с копытом, туда и рак клешней», — говорит отец про Симона. И, подумав, добавляет: «Лезет в волки, а хвост собачий».
…Выбираемся из погреба, где мы по очереди прикладывались к крынке с хлебным игристым квасом. Крынка вся в капельках холодной испарины. Мы озябли, животы пучит, и снова — на палящее солнце! Мы обливаемся потом, и нам очень странно, что отец и Василь, которые весь день работают в этом жарком пекле, не потеют! И что еще интересней — не хотят нить! Или и впрямь взрослые такие терпеливые, на нас, детей, во всем непохожие…
— А почему вы не потеете и не хотите пить? — без обиняков спрашиваю отца, когда все мы — я, Андрейка и Анютка — исчерпали весь запас догадок.
— Потому, что не пьем, поэтому и пить не хотим.
…Спустя года, в начале войны, в летние знойные дни на аэродроме, я вспоминал слова отца.
Много подробностей запомнилось из тех нескольких дней работы отца на току Василя. Именно разрозненных подробностей, а не цельных картин. Жена Василя, ее дотемна загорелые босые ноги и цветная пестрая хустына на голове; хустына повязана так, что на темени торчат не то два рожка, не то два поросячьих хвостика; дым почти невидимо струится из побеленной летней печурки в дальнем углу двора; вкус картофельного супа с клецками («ленивые вареники»), легкий ароматный пар над большой глиняной миской, из которой мы, в шесть обглоданных ложек, лежа на бархатистой гусиной травке, поедаем суп; трепещущие слюдяными крылышками стрекозы на бельевой веревке, а поодаль, на косогоре за плетнем двора — две березы. «Чета белеющих берез»…
Мы с Андрейкой утаптываем солому в риге; я то и дело стукаюсь головой о поветь. Душно, пыльно, дышать нечем. Грязные ручьи пота заливают глаза, работаем вслепую.
Не помню, из‑за чего мы подрались. Может, нервы сдали от жары и пыли? Андрейка стукнул меня кулаком раз, другой — затем, словно войдя во вкус, стал меня колотить, как осатаневшая машина. Я плачу, но то ли от трусости, то ли не догадавшись о такой возможности, не даю Андрейке «сдачи», а только пытаюсь схватить его колотящий кулак. Отец и Василь, заслышав мой вопль, появляются в риге; цепи, словно кнуты, на плече у каждого. Пробиваясь сквозь щели крыши, солнечные лучи пунцовым светом прошили уши отца и Василя.
Пока приближаются отец и Василь, лучи то вспыхивают, то гаснут, пятная их широкие полотняные портки и рубахи. Наконец радужно–слепящая пыль опадает на землю светлыми зыбкими полосами.
…Они смеются! Они могут смеяться, когда меня так больно бьют! «Что ж ты, дурачок, руку ловишь — бей сам!» — пристукнув деревянной ногой, говорит отец. Оба, смеясь, уходят. Пляшущие на их спинах солнечные блики — тоже смеются.
Сколько жестокости в этом мире! Отец меня предал, не защитил; Василь еще недавно играл со мной, щекотал меня своими усами, но не остановил Андрейку. Наконец, друг — Андрейка… Побои друга. Что может быть хуже?
Я стою, носом хлюпаю, реву, распустив губы, глаза застят слезы. Мне бы нужно сейчас что‑то сделать, показать им всем, насколько они подло обошлись со мной, оградить себя хотя бы от насмешек и позора. Все тело ноет от кулаков друга, я подавлен, я жалок, но в смятении протягиваю руку за грушей, которую после Анютки и Андрейки, предлагает мне жена Василя. Как я презираю слабость свою! Ем грушу и давлюсь слезами. Я вижу, что и жена Василя, и Анютка насмешливо смотрят на меня. Побоями я оскорблен, а грушей еще и унижен…
Груша теплая и жесткая, с темными пятнышками на медно–ржавой кожице. Зачем я ее взял?
Вечером даже мать не пожалела меня, а лишь подосадовала: «Как же так — руку ловить! Дурачок! Дал бы ему как следует! Он тебя потому и бил, что ты робеешь».
Я же и виноват? Моя трусость — причина Андрейкиной подлости? Трусость — та же подлость и жаловаться не приходится?
Нечто подобное говорила мне моя мать. Мне трудно осознать себя виноватым, особенно после того, как с полной уверенностью счел себя жертвой. Отец говорит матери, что все это потому, что она заласкала меня, занежила. Мать возражает отцу. Я, мол, не уверен и робок потому, что не надеюсь на отцовскую защиту. Материнская ласка, мол, не помеха храбрости. Спор стаповится раздраженным. Зачем я только пожаловался матери? Как бы отец опять не разбушевался.