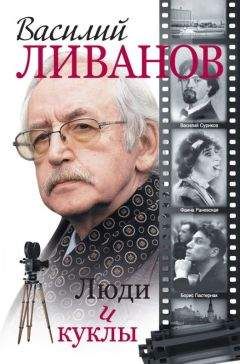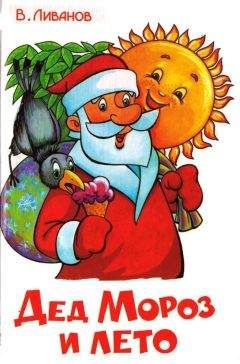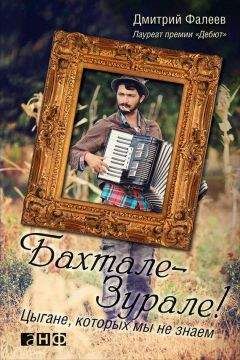Александр Ливанов - Начало времени
Как на важном богослужении, женщины—мать и рябая баба–просительница, с благоговейным умилением на лицах, стоят у порога, возложив руки на грудь. В их языческой неподвижности — сознание полного собственного ничтожества: они то вздыхают, то молча и кротко переглядываются: «Каков Карпуша!.. Пишет!..»
А Карпуша не хочет довольствоваться ролью простого писца, пишущего под диктовку. Он стремится возвыситься до творца. Из корявых слов косноязычной бабы о том, что рожь обмолочена, что свинья еще не опоросилась, что в этом году плохо с сеном — он стремится создать художественную новеллу, наполненную благоухания и задушевной прелести; в будничный факт крестин явившегося на свет внука этой бабы он хочет вдохнуть возвышенную образность и расцветить его, как яркий майский луг.
Отец долго смотрит на божью матерь, беззвучно шевелит губами — то ли шепчет что‑то, то ли молит ее о даре поэта (а может, хотя бы о ее снисхождении к его немужицкому занятию).
Безразличная ко всему божья матерь с потемневшей доски без рамки, оклада и стекла, не помогает отцу, и он опять вспоминает о стоящей у порога бабе: «Ну, дальше, дальше чего?»
Но вот отцом уловлен какой‑то высший звук, начинается служенье — все разгонистее бежит перо по бумаге. «Помолчи! Не мешай! Разболталась, как крупорушка!» — бросает он бабе, и та оробело умолкает. Мать растроганным взглядом успокаивает ее: дескать, теперь — не тревожься. Карпуша все знает, все, как нужно, напишет, и от себя добавит!
Тихо–тихо в хате. Слышно только, как быстро поскрипывает по бумаге отцовское перо. Женщины у порога сдерживают вздохи. Я, сидя на печке, стараюсь как можно бесшумней переливать рожь из одной ладошки в другую. Только муха, не будучи в состоянии возвыситься до понимания святыни этих минут, по–прежнему назойливо жужжит на окне.
Исписан последний лист бумаги — отец в порыве вдохновения, точно добрый разгоряченный конь, взявший последний барьер на скачках, тут же переносится на обложку. Рябая баба даже привстает на цыпочках. Вот–вот из груди ее, как ласточка из гнезда, выпорхнет возглас изумления!
…Завтра у колодца я слышу, как соседки обсуждают последнее письмо Карпуши. Поистине, молва стоуста, а у славы широкие крылья. Снова и снова говорят и о полном отсутствии клякс, и о явном наличии мелкого почерка; говорят как о чуде, о быстроте и о чистоте отцовского письма. Но это еще не все. Последнее слово все же за нашей вчерашней гостьей: «Знаете ли, бабоньки, что особенно чудно: взял нелинованный лист, а строчки, как по струпке ров–ны–е, ров–ны–е! Нет, что ни толкуйте, этого ни батюшка, ни вчитель наш не смогут!»
На нечи душно, сытно пахнет хлебом от нагретой ржи, будто в поле в жатвенный день перед грозой. Мать с ночи принялась топить печь, и ей не до меня. Я слезаю с печи, по–щенячьи трусь около матери, мне хочется, чтоб она меня приласкала.
Дрова сырые, печь плохо топится, а квашня в корыте вздулась, прет через край. Намокшие прядки волос спадают с висков на щеки, мешают матери. На горле ее вижу натянутую пульсирующую жилочку. Я испытываю неизъяснимую нежность к прядке мокрых волос и к пульсирующей жилочке, таким же хлопотливым и тревожным, как и сама мать.
А она беспокоится, что квашня перестоит и захолонет, прежде чем будет готова печь. Вся овчина с полатей уже пошла на сугрев корыта. Пошуровав в печи, вытащив черно–сизую кочергу, мать ткнула ее в угол, чтоб была под рукой, рядом с лопатой (деревянной лопатой для посадки в печь хлебов) и ухватом–рогачом, похожим на огромного жука. Как меня угораздило наступить босой ногой на горячую кочергу?..
…И все же я плакал больше от обиды, чем от боли: мать даже сейчас не приласкала меня! Кочерга проклятая!
Как больно! А еще больней оттого, что мать меня больше не любит.
А ведь видел я, что она занята, расстроена, но детский эгоизм всегда глушит слабые ростки сознания; вечный суеверный страх детства — лишиться материнской любви…
А может, я просто угорел? Чем объяснить несвойственную мне капризность? Отец лежит на полатях и читает книгу. Она из поповского дома. По ней учились сыновья батюшки Герасима, по ней вскоре, за неимением букваря, и мне предстоит учиться русскому языку. Восходящее солнце на обложке не предвещает мне ничего хорошего. Каждая буква будет оплачена отцовскими шлепками и моими слезами. О, я никогда не забуду эту хрестоматию, нетерпение и злобное отчаяние отца по поводу моей тупости!.. Но разве легко понять, как из букв получаются слова? Почему «эм» и «у» вместе означают «му», а не «эму»? Разве легко что‑нибудь сообразить, когда ты весь подавлен страхом?..
Ступня очень болит от ожога, мать на меня не смотрит, и я продолжаю плакать.
— Что еще за рев? — кричит матери отец. Я тут же стихаю, уже не плачу, а только трусливо хныкаю. Отец глянул на меня, как змий на агнца.
…Нет, отец не был чудовищем. Так было принято — дети бабья забота. Как бы грудной ребенок ни надрывался, мужик, например, не покачает «колыску», подвешенную к потолку ивовую плетенку! Оберегаемое мужское достоинство? Лень? Нет, скорей всего все та же традиция.
В лучшем случае, мужик просто не замечал ребенка. Как кошку или щечка. Орет? Пусть орет. Играет родное семя на студеном полу, натолкает полный рот грязи — родитель обойдет ребенка, лишь бы не наступить. Голова семьи, взявший на руки ребенка, либо сменивший ему мокрую подстилку, видимо, счел бы себя раз и навсегда опозоренным перед своим мужским племенем!..
Отец перед домом резаком скоблит, срезает пыльные листья подорожника, гусиную травку. Он готовит ток для молотьбы. Резак, с узким поперечным ножом, насаженным на палку. Это резак Симона. Я его едва донес на плече. Со знанием дела осмотрев резак, отец попробовал его, опять осмотрел. «Все у Симона есть! Настоящий кулак!» — приступая к работе, заметил отец. Он то и дело озирается на порота, откуда Василь и мать должны привезти с ноля паше жито.
Наконец площадка очищена от травы, подметена, прибита и уплотнена чурбаком–трамбовкой, чем‑то похожей на отцову деревянную ногу. Я смотрю, как ловко работает отец, и мне жалко, что рядом никого нет из соседей; никто даже мимо не пройдет, а то увидели б, что вовсе отец не «порченый мужик!».
А вот и показался в воротах воз — высокий–высокий, выше хаты. Воз с нашей рожью, нашим хлебом! «Уродится рожь — по миру не пойдешь», — помню поговорку отца. Уродилась! Мне кажется, что это очень–очень много ржи. Я готов обрадоваться и хлебу, и возу с матово–блестящими шинами колес, и волам в ярме, но вижу взгляд, каким обменялись мать и отец, и уже сомневаюсь, есть ли у меня основание радоваться.
Всегда что‑нибудь не так! Как редко навещает радость наш дом. Напрасно ищу я ее на лице отца, матери. Кажется, вот–вот она, совсем близко. Но всегда — «что‑нибудь не так». В мире столько солнца, голубого неба, привольных зеленых полей, а радости почему‑то мало. Птицы, бабочки, любая маленькая пчелка умеют радоваться жизни, а люди не умеют. Да они просто боятся радоваться! Гнетут их заботы, тревоги, страхи. Они суеверны. Вот и сейчас — до зимы и голода далеко, стоит ли думать о них? Отец и мать уже пригорюнились, не радуются новому хлебу.
— Все? — угрюмо спрашивает отец.
— В поле есть еще сотенка снопов, да они почему‑то на чужом поле, — шутит Василь, оглаживая книзу вислые усы. Улыбнулся одними карими рачьими глазами и принимается распрягать волов. Отцепляет дышло от ярма, осторожно опускает его между черными бычьими ногами.
— Земля навоз помнит, — раздувая ноздри, укоризненно говорит отцу Василь. — Клади навоз впору — соберешь ржицы гору. Навоз и бога обманет!..
Отец рассеянно молчит. Зиает он все эти поговорки — и про навоз, и про ржицу — все знает, не хуже соседа. Но где его возьмешь — навоз, если скотины у нас никакой?
Василь прямо в ярме уводит своих волов к колодцу на водопой. Волы ступают, как всегда, с солидной степенностью, лишь усиленно обмахиваются хвостами. На дворе «июль — задери хвост». Слепни и мухи сильно об эту пору донимают скотину.
Мать идет в сени, долго, маленькими глотками, как лакомство, пьет воду из нашей медной кварты, кончиками мокрых пальцев освежает виски. Отец отвязывает веревки, которыми притянут рубель. Это — дрын, прижимающий сверху снопы.
…Рубель, гнет, перегнетка… Умирает тихо и неприметно множество слов, забываются, уходят в небыль, как сами предметы и явления, которые они обозначали.
Огромным, круглым, золотистым блином лежит наша рожь посреди двора. Отец и Василь отложили цепки, сидят в сторонке, на земле, не на хлебе, закуривают. Каждый достает свой кисет, но сам первым не закуривает — сперва предлагает другому: «Закури мово». Перекрестив руки, каждый берет у другого щепотку самосада, молча и сосредоточенно крутит цигарку из тонкого кукурузного листа, смачно слюнявит ее кончиком языка, медленно поводя головой влево–вправо; теперь можно и за кресало. Чиркают, искоса следя друг за другом: чье сработает раньше. Отец честолюбив, нервничает. Василю не хочется обидеть его и, прервав чирканье, с наигранной заинтересованностью следит — что это там у отца не получается. Он готов уступить отцу первенство.