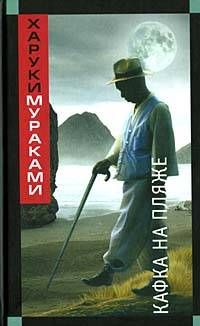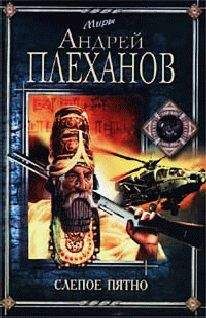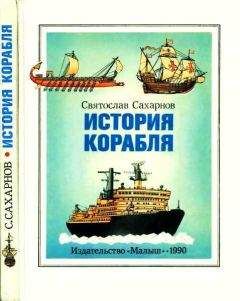Галина Докса - Мизери
И Света стала думать о том, что ее бедность или ее так называемая «нищета», о которой вчера пел грустные народные песни хор соединенных голосов в учительской, по большому–то счету никакая не нищета, раз три или четыре взрослые порции доброкачественной диетической гречи пошли на корм воронью. И что бы ни говорила Валерия, у которой, кстати, тоже нет детей, но не в детях дело… На что бы ни гневалась несчастная Валерия, но Света, выбросившая кашу на помойку, тем самым попадает в лагерь Прасковьи Степановны и Самуила Ароновича (нет, так нехорошо, по–балаганному выходит: «лагерь Самуила Ароновича» — упаси Господи!), в мамин, стало быть, лагерь. Нищета? Бедность и — как следствие — нищета, то есть голод, холод и страх? Но подождите! Такая ли нищета пугала маму незадолго до смерти? О таком ли голоде помнила мама, уговаривая Свету пойти и купить «на всю зарплату» гречневой крупы и спрятать в кладовке? Света от отчаяния пошла тогда и купила двадцатикилограммовый мешок крупы, зато теперь она могла жить на этой крупе хоть до следующей осени — много ли Свете надо? Нищета это или бедность — то, что ее не пугает, но как бы гипотетически устраивает крупяная жизнь? А вот это: нищета или… То, что, купив летом краску для волос, она почти решилась остричься — велика потеря! — так дорога была краска? Тогда ее удержало… (Нет, не туда, не о том…) А мама, с тех пор как Света начала ее помнить, всегда была седая. И Свету предупреждала: «Если ты в меня, начнешь рано седеть. Привыкай красить волосы. В ваше время стареют позже». Наше время. Мое время. Что еще?
Бедность, нищета.
Света вытащила семейный альбом и стала листать его от конца к началу, от южных, пляжных, грубо–цветных, одиноких своих портретов до изжелта–серых и четких, как офорты фамильных фотографий, немногочисленных — их хватило на две страницы, — а две страницы были отданы маминой юности, и дальше шла Света: крошечная, маленькая, подросшая, выросшая, классом, группой, коллективом… на экскурсии в горах Кавказа, Крыма… а кто это стоит третьим справа во втором ряду, отвернувшись от объектива?.. Узнав, Света переступила босыми ногами по холодному полу, захлопнула альбом и присела на стул у шкафа. Заметив, как шевелятся замерзшие пальцы ног, она остановила их взглядом и долго не отрывала его. Ногти на ногах блестели лаком. «Вот еще лишняя трата», — подумала Света в связи с бедностью, настоящей и будущей. Мысли о бедности и нищете были приятны, привычны и необременительны. Света умела о многом думать легко — так пианист, отдыхая после тяжелого концерта, играет для домашних детские пьесы Чайковского: наигрывает одной рукой, а в другой держит большое яблоко, но забывает о нем и откладывает в сторону, увлекшись пассажем. Света часто гордилась перед собой этой способностью с приятностью думать о неприятном, хотя случалось и наоборот…
«Пора отвыкать красить ногти. Вычеркиваю из списка расходов. На чем я остановилась? Бедность ли то, что я не могу позволить себе провести отпуск на море? Раньше могла, а нынче — увы… Но меня вряд ли когда потянет к морю, вряд ли когда… А мама, та вообще ни разу не была на море. Сколько ни уговаривала я ее, так ни разу и не съездила в Крым, а могла бы дешево съездить по профсоюзной путевке. А взять, например, бабушку, мамину маму? Бабушка не то что не могла или не хотела отдохнуть на море, она просто не знала, что такое море и что с ним можно делать…»
Света заглянула в альбом, на первую страницу. Бабушка сидела с сестрами рядком, а за спиной сестер стояло пятеро братьев, совершенно одинаково плечистых и угрюмых. Сестер было шесть. Пятеро — в цветастых платках и с косами через плечо, и одна — Светина бабушка — в городском платье, стриженая, с гребенкой в подвитых волосах. Год, наверное, двадцать пятый… Уголок с датой оторван… «Крепкая» крестьянская семья. Сыновья молоды, смогли уцелеть в гражданскую. Залюбуешься, какая семья! А где родители? Так, вот и родители: мать–старушка и отец–молодец. Старовер. Но ручаться нельзя. Эту подробность Светина мама помнила смутно, а хорошо помнила она то, как сытно и вкусно было в деревне, куда ее отправляли «на откорм» в двадцатые годы. Не то что в городе. В двадцатые… Нет, наверное, в двадцать пятом бабушка, подавшаяся в город за женихом–односельчанином, гармонистом и «красным командиром», что на зависть деревенской молодежи и к осуждению отца–матери умел только «лясы точить да девок лечить», эта беспечная бабушка, умершая от чахотки за год до наступления коллективизации, после которого, очевидно, деревенские радости Светиной маме были заказаны навсегда (но приближались, подманивали — комсомольские) — скорее всего, бабушка, прижившаяся в городе, уже знала о прелестях курортной жизни понаслышке, но вот эти ее одинаково щекастые, задумчиво–испуганные сестры — вовсе не бедные, благодарение Господу — уж точно рассмеялись бы в лицо парню, предложи он им заместо новой шали к Пасхе «поехать на море»…
Света спрятала альбом, затруднившись выбрать для себя какой–нибудь более или менее надежный критерий бедности. «Критерий… Хм… Порог… Скорее, притолока… Дверной проем… оконный…»
Она поднялась и подошла к окну. Стая ворон, уменьшаясь, рывками продвигалась вдаль и ввысь.
«Так… каша… с кашей покончено… нищета… Нищета признана недействительной…»
Она наклонилась к венику, но не дотянувшись на вершок, махнула рукой и отправилась на кухню поджарить себе еще хлеба. По дороге она ткнула пальцем в телевизор. В тот момент, когда, пискнув, телевизор ожил и белое пятно света выпучилось на нее красновато–сиреневым глазом, ей, как часто случалось в последнее время, ясно и, как всегда, коротко поднялась — поднялась, как зарница над горизонтом, и погасла — сильная мысль, протянутая дугой от левого плеча неба к правому, — широкая мысль, качнувшая смыслы, полные плещущейся тяжести, — привычная, утомительная, невольная, не ее мысль о том, что не сама она только что обежала за минуту пространство жизни, изжитое матерью ее, бабкой и прадедом; что не она одна в эту секунду остановки на однообразно извилистой тропе ее размышлений — тропке, вытоптанной до белой глины миллионами ног, босых и обутых, — не она только знает эту глину своей землей, как ни мало ее осталось впереди… Не сомневаясь, не удивляясь и не пугаясь, молниеносно и благодарно почувствовала Света, как некто сильный, умелый и любящий сдавил ее руку, разжавшую пальцы, рванувшуюся в сторону, и они пошли рядом, обнявшись почти, почти побежали.
Света разжала руку и посмотрела на черную горбушку, легкую от сухости. Хлеб, оказывается, весь вышел. Света налила в миску воды, размочила сухарь, намяла тюрьки и поела себе тихонько, как беззубая старушка. Лень было одеваться, спускаться по лестнице, толкать тяжелую дверь универсама, говорить: «Будьте добры», или «Мне, пожалуйста, за восемьсот девяносто пять», или «За восемьдесят девять пятьдесят». С облегчением вспомнила Света, что в доме нет ни копеечки, и вернулась в комнату. Телевизор пыхтел, как поспевающий самовар. Лень было повернуть регулятор, и лень было выключить бесплатный телевизор. Подумав еще немножко о дешевизне телевизионного сервиса, об удобстве и относительной дешевизне жизни в отдельной однокомнатной квартире и чуть–чуть, «понарошку», задумавшись (как сорвавшись рукой с подлокотника вниз, в бездонную пропасть) о предстоящей ей одинокой и долгой старости, очень спокойной, Света вздрогнула, опомнилась и крепко сжала в руках веник, собираясь заставить себя начать уборку. Телевизор немо взирал на нее застенчивой рекламой «Тампекс». Света поморщилась. «Только быстрее, — приказала она. — Быстро и недолго. Пока иду до телевизора — пять шагов. Ничего не поправить? Ничего нельзя изменить? Все было, как было, и значило, что значило?.. Ах, каша, ты моя каша… Милая, незабвенная каша…»
* * *— Как мальчик, Игорь? Он окреп после лета?
Света никогда не называла сына Игоря Игорем или Игорешей, а только — мальчиком. От этого Игорю становилось не по себе, словно его мальчик, любимый, но самый обыкновенный, один из множества мальчиков, живущих в мире, превращался в единственного мальчика, в маленького героя античной мифологии или еще чего–нибудь подобного, чего не могла бы объяснить и сама Света, произносившая «мальчик» с маленькой запинкой на мягком «л», с торопливым шепотком у суффикса и с интонацией легкой назидательности, обращенной к Игорю, отцу мифического мальчика, похожего на него как две капли воды. Света знала о сходстве по фотографиям, которые приносил Игорь прежде на свидания: толстые пачки детских и материнских улыбок; детский убегающий затылок и детский пойманный смех через плечо; черно–белые черты самого Игоря, повторявшие в укрупненной нечеткой копии (снимок делала мать) таинственное очарование подвижных и текучих черт его мальчика, мальчика…