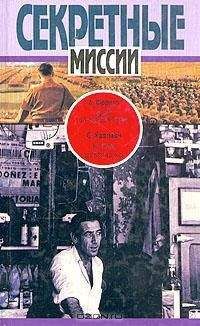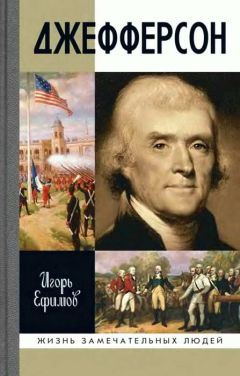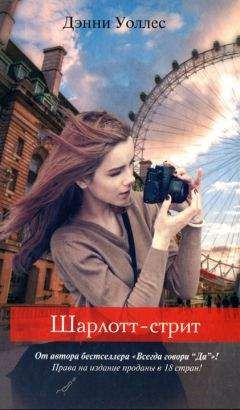Леонид Крохалев - День впереди, день позади
— Нельзя, Колька. Никак нельзя. Не на ток мы… Далеко поедем… В бригаду! — Витька говорит вроде строго, а смотрит растерянно. Потом как бы о чем-то догадывается и радостно улыбается: — Давай лучше завтра прокатимся, а? По рукам?
— А ты не обманешь про завтра-та? — спрашиваю я с надеждой.
— Ну-у! Мое слово — закон! Дак по рукам?
— По рукам, — говорю я и смотрю на удаляющуюся колоду, в которой мотаются головы одногодков, поехавших с Витькой в «бригаду».
Тут я сразу, без остановок, иду к дядьке Селёме. Я всегда о нем вспоминал и шел к нему, если мне делалось дома тоскливо, если, как сейчас, меня не брали покататься на лошадях, если здоровые ребятишки, покрутившись иной раз в нашей ограде, удирали потом за речку, играть в войну. Дядька Селёма всегда выручал меня, он всегда был дома, и у него всегда было интересно. И он меня любит…
Воротца его ограды открывались просто: я дергал за сыромятный ремешок, продетый в дырку, брякало железо, воротца сами со скрипом уезжали влево. Я перелазил через доску, заложенную между столбиками, чтобы в низ ворот не убегали курицы, и смотрел на окно. Там, за горшком с кустистым алоэ, сразу появлялась бородатая дядькина голова. Он распахивал створку и говорил:
— Здорово, Кольша! Давно, брат, не видались. Заходи, гостем будешь! Токо воротцы запри, курицы утянутся, не соберем тогда.
Я закрываю воротца и прыгаю в избу.
На широкой лавке, у окна, как всегда, лежат хомуты, уздечки, валенки. Дядька Селёма не ходит в колхоз на «обчие» работы, он работает дома: шьет конскую сборую, а пимы заказывают деревенские.
Его деревянная нога, как обычно, валяется рядом с опрокинутой на бок табуреткой. На табуретке лежит фуфайка, ему ловко так сидеть и работать. Я тоже люблю садиться на эту табуретку с мягкой фуфайкой: похоже на куричью лунку.
— Опять отстегнул? — указываю я на самодельный деревянный протез.
— Опять, Кольша. Мешат проклятая! А ты о чем там, на дороге-то, с Витькой баял?
— Покататься просил. Он сказал — завтра.
— A-а, ну тогда ладно.
Я отодвигаю от табуретки дядькину деревяшку, чтобы она не мешала мне забраться на лавку. Притрагиваюсь к ней осторожно. Мне всегда боязно ее брать, все кажется, что она живая…
Как-то я спросил у него:
— Дядька Селёма, а пошто у тебя друга нога деревянна?
Он поглядел на меня и сказал:
— Немцы мне-ка таку сделали…
— А мне они могут сделать таку?
— Не, парничек, тебе, слава осподи, таку уж не сделают…
— А пошто? Мне надо!
— Пошто-пошто… По то! — сказал дядька сердито. — Вот вырастешь большой, тожно узнашь!
Потом погладил меня по голове.
— Я сам тебе излажу. Да не одну ногу, а две!
— А ты разве умеешь ноги делать?
— А как жо? Умею. Излажу, увидишь вот…
Дядька Селёма скатывает дратву. Зацепил светло-зеленую конопляную нить за гвоздь в простенке, один конец нитки держит в зубах, другой трет ладонями, закручивает.
— Давай подержу, — говорю я.
Дядька улыбается и качает головой:
— Два инвалида собрались, ну, работа, держись! На! Только смотри, не отпусти!
Мы долго крутим нитку. Потом дядька складывает обе половинки вместе, слюнит концы и разжимает кулак. Фырь! — скручиваются две нитки в одну. Дядька Селёма берет кожанку с варом и шоркает светло-зеленую рубчатую дратву, она становится черной, блестящей и гладкой.
— Вдень-ко в иголку, помощник. У меня глаза плохие, а у тебя вострые, быстрее получится. — Он подает мне дратву, а сам тянется к деревянной ноге, достает и начинает пристегивать.
— Ты куда?
Дядька хитро улыбается:
— На кудыкину гору, вот куда! — И со стуком припадая на деревяшку, выходит в сени.
Я высовываю язык и стараюсь вдеть дратву в большущую иголку. Ушко у иголки широкое, но острый конец дратвы все равно загибается и никак не хочет в него пролезать. Когда вошел дядька, я даже не оглянулся.
— Ну-ко, племянничек, гляди, что я тебе изладил, — сказал за спиной дядька и стукнул чем-то по полу. Я оборачиваюсь: в руках у него — маленькие костыли.
— Вот тебе две ноги! Помнишь, сулил? Ходи на здоровье… Поминай дядьку Селёму…
В концы костылей вбиты гвозди, по полу они не разъезжаются, зато выскакивают из-под мышек. Я долго не могу с ними справиться, ковыляю по избе, осваиваю дядькины ноги. А он сидит на своей перевернутой табуретке, смотрит на меня и то улыбается, когда я радуюсь удачно сделанному шагу, то отворачивается и трет глаза, будто в них попала соринка.
— Хватит токо! — говорит он наконец. — Сладкого не досыта, горького не до слез. Потом доучишься, а сейчас работать давай. Умеешь пимы-то подшивать?
Я сажусь рядом. Тут дверь скрипит, я оглядываюсь. Держась за косяк, через порог переступает Дуняшка-бомба. Она живет недалеко от нашего дома и все время сидит на лавочке возле своей избушки. Сидит и греет на солнышке толстущие, как бревна, ноги. Мама говорит, что у нее водянка, и я всегда думаю, что же это Дуняшка кожу себе иголкой не проткнет и воду не выпустит? Сразу бы тонкая стала!
Дуняшка перелезает через порог и, отпыхиваясь, переваливаясь, как утка, проходит в передний угол, садится на лавку, показывает на мои костыли:
— Ишь какой дядька-то у тебя умной. Ловко придумал! Мне бы тоже како-нить приспособленье смастерил, ли што ли? Все бы легче ходить-то было. Фу-у-у…
Дядька Селёма смеется:
— Я тебе телегу сделаю! Запрягешь парой, может потянут. Ну чё, за пимами пришла?
— Да думаю, узнать вот надо… Подшил, ли што ли?
— Эко, хватилась! Неделю назад… Я эть передавал тебе через сестру. Не сказывала разве?
Дуняшка засопела.
— Сказывала, сказывала… Скоко за работу-то запросишь?
Дядька молчит, потом говорит:
— Ты же, Дуня, мою цену хорошо знаешь… На полчекушки!
Дуняшка снова сопит. Она сроду так. Дядька скажет про деньги, она сопит.
— Очумел, мужик! Корыстны ли доходы у меня? Токо яйца в сельпо да картошку кому заезжему…
Дядька беззлобно хмыкает:
— Да я, Дуня, твою экономию не хуже тебя знаю. Токо я эть тебя к себе не тяну. К другому иди, кто за дешевше возьмется.
Дуняшка укоризненно качает головой, потом лезет за пазуху.
— Чемер бы тебя взял! Все не нальешься никак. Захлебнешься жо когда-нить заразой этой!
Она достает из-за пазухи мятую белую тряпицу. Уголок тряпицы завязан узлом. Дуняшка тянет за узелок зубами и, развернув его, бережно берет пальцами сложенные квадратиком бумажные деньги, а на ладонь высыпает мелочь. Отсчитав рубли, протягивает дядьке. Потом берет с ладони железные денежки и тоже протягивает. Дядька сидит не шевелясь. Дуняшка бросает денежки на лавку, но одна копейка скатывается и звякается на пол, под лавку. Я лезу туда и нахожу ее. Хочу отдать дядьке, но он говорит:
— Тете Дуне подай, Коля.
Я подаю.
— Што уж тамо, — говорит дядька. — Мелочь не будем считать.
Берет с лавки денежки, подает Дуняшке. И опять сидит какое-то время молча, опустив голову и прижав седую бороду к груди, потом говорит:
— Вот ты, Дуся, все воспитываешь меня… Не нальешься, мол, да захлебнешься. А я те так скажу. Там… — Он хлопает ладонью по деревяшке. — Жив остался. А здесь… — Он обводит рукой передний угол, где сидит Дуняшка и стоит дощатый стол с квадратными ножками, и куть, где на стенке возле большой печи висит шкапчик без дверки с одной полкой, а на полке стоят рядом маленький берестяной туесок с солью и самодельная жестяная кружка — высокая, узкая консервная банка с приклепанной ручкой. — Здесь уж как-нибудь…
Дуняшка берет свои пимы с разрезанными почти до половины голенищами и уходит. Дядька долго провожает ее в окно взглядом. Смотрю и я, как она бредет по улице, неловко переваливается с боку на бок и загребает ногами песок. Дядька говорит непонятно:
— Ох-хо-хонюшки-хо-хо-о… — и принимается подшивать другой пим.
Я люблю смотреть, как он работает. Коротким острым ножом он отрезает кусок голенища от старого пима, прикладывает его к подошве не совсем старого, прокалывает шилом дырку и продевает в нее две иголки с дратвой: одну иголку снаружи — внутрь пима, другую изнутри — наверх подошвы. Изнутри он долго нащупывает дырку концом иголки — темно там, ничего не видно! — и я всегда с нетерпением жду: найдет или не найдет? Он находит, я радуюсь. Так обходит он иголками один круг, потом другой, поменьше, потом делает строчку посреди пришитого к подошве куска. Таким же манером пришивает и каблук. Наконец обрезает ножом неровные края заплат на подошве, каблуке и протягивает готовый пим мне. Я поглаживаю пальцем ровные-преровные строчки, говорю: «Баско!», и мы делаем перекур. Дядька Селёма отрывает клочок газетки, загибает у четвертушки краешек, насыпает в изгиб махорки, сворачивает цигарку и долго слюнявит ее. Дымит. А я обновляю пим: сую в него здоровую ногу и скольжу по полу, держась за лавку. Скольжу и смеюсь. И дядька смеется. Потом кашляет. Кашляет долго-долго. Я знаю, что в грудь ему тоже стреляли немцы и под рубахой у него, возле левого плеча, две ямки: спереди — маленькая, а со спины — большая, неровная, будто клещами вырвано. Я был уверен, что дядька кашляет только из-за этих ямок. Мама говорила — от какой-то чахотки. Я хотел представить эту чахотку и не мог. Вспоминалась лыковая вехотка[1], какой мама терла мне спину в бане. Но как от вехотки можно кашлять? Как она в грудь попадет?