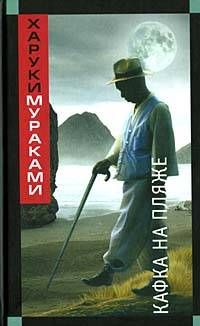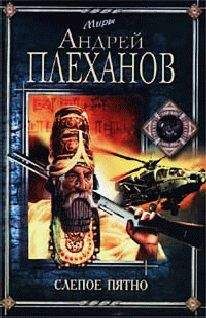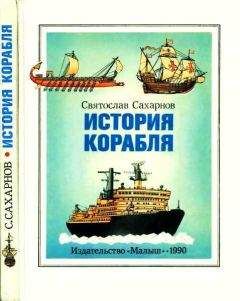Ада Рыбачук - Остров Колгуев
— Но-о-у!
— Но-о-у! — сколько раз слышалось у входа.
Женщины задерживаются дольше: и на новую паницу все смотрят, и люлька мешает торчащим вокруг личика ребенка ворсистым мехом. Надо положить люльку на лавку или на пол и еще все осмотреть. Интересно, а сколько рядов лавок?
Неслышно ступая (топочут только печорские рыбаки мерзлыми валенками), все рассаживаются по лавкам. Женщины даже завязки паниц развязали и, спустив мех с одного плеча, показывают новые красные, в больших или маленьких цветочках платья. А тундровые старухи — те и высоких шапок с сукнами не снимают…
В проходе и у двери столпились люди в ватниках, в черных овчинных тулупах, которые называются почему-то «шубами»: «Посмотрим, если будет интересно».
На сцену проходит президиум: председатель колхоза Иван Петрович Попов, знатный охотник Тайбарей, знатный охотник Лаптандэр, работница зверофермы Соломанида.
— Разрешите мне, товарищи…
Прилетевший спецрейсом работник окружкома партии начинает торжественный вечер.
А потом в клубе прочно поселяется новый запах — сырой одежды: сырых ватников, мокрой обуви, отсыревших в дороге оленьих шкур, которые пахнут еще и дымом, потому что их всегда сушат у костра, — в клубе поселяется запах праздников.
Сегодня одна из тех ночей, когда люди замерзают на пороге своего дома, так и не найдя его.
Непонятно, что это может так грохотать (в поселке нет ни одной железной крыши), так свистеть (провода уже второй день как оборваны), так выть (всем собакам разрешено забраться в сени, где они и лежат плотной грудой, примерзая к полу длинной шерстью, — если нужно выйти, приходится ступать прямо по ним, они все равно не встанут).
Ветер перекатывает на чердаке весла, свернутые паруса, чем-то хлюпает, разбивается порывами об угол дома. Невольно задаешь вопрос: а дом он опрокинуть может?
Настроение тревожное и напряженное, мы все время начеку, нам все время кажется, что нужно куда-то идти, что-то делать… Подложив под дверь лом и так удерживая ее, по очереди протискиваемся в щель наружу.
Ветер срывает даже слежавшийся снег, люди — если кому уж очень нужно — бредут, приваливаясь к стенам, ползут на четвереньках. Ветер не дает подняться; сугробы вырастают там, где их только что не было; в темноте натыкаешься на снеговую стену, руками, на ощупь ищешь, где она пониже, где можно взобраться.
Возле домов сушатся рюжи; сейчас на ветру рюжи похожи на летящих чудовищ; длинные, распертые скрипящими обручами их тела вздрагивают, дергаются: узкий конусовидный конец ловушки, наполненный ветром, как хвост; развеваются растянутые ветром открылки, ловят темноту.
Не знаешь, в какой стороне море; слепнешь и задыхаешься в этом месиве ветра, колючего снега и темноты.
Многие дома угадываешь по сугробам — откуда такая гора снега? Многие дома уже нужно откапывать.
Идем и начинаем копать траншею — коридор, почти вертикальный, вглубь. К дверям соседнего дома.
Володя разнимает двух дерущихся, отбирая у одного из них топор. Парень сбрасывает малицу и, обнаженный до пояса, ложится на снег — это его протест против того, что отобрали топор.
Сорок ниже нуля.
Володя натягивает на парня малицу — он сбрасывает ее снова.
— Принеси мне нерпичий ремень, — говорит Володя.
Утром парень пьет с нами чай, рука у него на перевязи.
— Понимаешь, — виновато говорит Володя, — я не хотел сделать тебе больно, но ты же вырывался и все хотел снова схватить топор.
Володя выступает на колхозном собрании: слишком много спирта, слишком много несчастных случаев.
Представитель торгующей организации:
— А у нас накладные на общую сумму завозимых товаров.
— Но ведь из всего количества завозимых продовольственных и промышленных товаров семьдесят процентов — спирт!
— Во-первых, не докажете… Во-вторых… иначе я выручки здесь не получу. Мы все от выручки работаем…
Представитель райисполкома депутатов трудящихся:
— Главное у нас, товарищи, не это: это, конечно, досадно, но это досадные, товарищи, мелочи. Мы должны выполнить план и по добыче для страны рыбы, как выполнили его по добыче пушистого золота…
Доктор приготавливается делать мне анестезирующий укол. В ванночке на керогазе кипит вода, доктор в белом халате читает книгу.
— Смотри, вот здесь в кости — отверстие, выход пучка нервов. Вот сюда мне и нужно попасть иглой. Скажешь, если попаду.
Игла шприца легонько ударяется в кость — это я точно чувствую.
— Доктор, ты делал хоть одну операцию?
— В институте — на собаке. Мы все делали. Она с утра до вечера была под наркозом, на другой день скончалась. Может, оттого, что очень долго под наркозом была?..
Доктор новый, в новой больнице. Один — даже санитарок нет.
— Доктор, тебе не страшно одному? Ведь придется и серьезные операции делать. И вообще операции в такой обстановке… не страшно?
Доктору двадцать три года.
— Нет, не страшно. Я, конечно, делал операции только под наблюдением, а здесь первую же сам. Больница ведь еще не оборудована. Знаете, первую операцию прямо на полу делал, четыре керосиновые лампы тоже на полу стояли. «Молнии», правда. Ничего, живет ведь. Если эту больницу оборудовать — я уже заказал, самолетами начнут привозить, — здесь не хуже, чем в областном центре, будет. А с пароходом, наверное, и санитары и фельдшер уже приедут… Обживемся…
Вспоминаю остров. Последний, на отшибе, дом над морем. И врача Федора Егоровича Бефуса, тоже выпускника Архангельского медицинского института, семь лет прожившего на острове и оборудовавшего, собственно создавшего, здесь больницу, всегда, в любое время года и в любое время суток готовую принять больного, всегда одинаково чистую, всегда имеющую горячую воду, — как это трудно на острове, понятно и без объяснений…
Как часто доктору приходилось прерывать операцию и, накинув поверх халата полушубок, бежать к «забарахлившему» в сарае мотору — трудно все же делать операцию при керосиновых лампах.
Доктор съездил на боте за лесом и, выписав на фактории старые бочки, возглавил бригаду плотников. Так была проложена на острове первая улица-проспект, а попросту — деревянная кладка над топкой, раскисшей тундрой.
Доктор добился, чтобы все женщины, вместо того чтобы рожать в тундре в отдельно поставленном чуме, приезжали в больницу. Кто знает, чего ему это стоило.
В торосах рождалось солнце.
Отразилось в глазах, в стеклах домов.
— Ну, вот и зима кончилась, — поздравляли друг друга люди.
Снег скрипел и визжал под подошвами, под полозьями — люди расходились и разъезжались по своим делам.
Лежу за печкой, растянувшись на нарах, высоко над заиндевевшим полом. Мне хорошо — как только может быть хорошо человеку, шедшему в пургу берегом Карского моря почти восемнадцать часов, не садясь и не останавливаясь.
Впрочем, остановки были…
Старик Топчик, останавливаясь, гладит заснеженные собачьи лбы, стряхивает с собачьих бровей куски снега, говорит что-то ободряющее — и дальше; остановились — сняли лыжи, потому что усиливающаяся поземка совсем скрывает поверхность снега и заледеневшие заструги, оставшиеся после прошлой пурги, — об них можно сломать лыжи.
…Надо мной — черные балки потолка, на двух растянутых над печкой веревочках сушатся щепки для растопки, на такой же черной, как потолок, стене (изба когда-то топилась по-черному) висят ружья; протянув руки, я не могу потрогать отполированное прохладное дерево и поблескивающий металл.
Кожа у меня на лице стягивается все больше — от этого даже выворачиваются губы, а со щек течет что-то мутно-коричневое; от жара печи больно.
Топчик поглядел на меня, покачал головой: а-ай… Вышел в сени, вернулся с кусочком нерпичьего жира.
— Попробуй приложи…
У него на скулах тоже темные пятна.
Едва светает — старик уже топчется по избе: прикрутил лампу (ее не гасят — кончились спички), затопил печь, принес из сеней бруски снега; когда красноватые лучи косыми полосами подползают к двери, мы уже пьем чай.
В конце завтрака на чистых некрашеных досках стола — кружки с крепким чаем, темные сухари, котелок с растопленным нерпичьим жиром. Немногословный разговор: кто куда сегодня.
Первым, взяв ружье, вниз к морю скользит Нядма.
Старик, натянув поверх малицы черный суконный совик, с ружьем и лопаточкой для утаптывания снега у капканов, не нагибаясь, ловким движением ноги надевает лыжи. Идет вверх, к сопкам, не быстро, размеренно, так он может идти суток трое. Володя идет со стариком.
Тобси, взяв ружье и надев лыжи, как всегда бегом, отправляется тоже в тундру, но к востоку.
Я остаюсь в избушке. Рассматриваю желтые, как выскобленный стол, полы, блестящие ковши и алюминиевые кружки, развешанные на стене у печки.