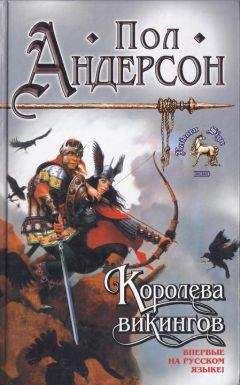Айбек - Детство (Повесть)
— Хай-хай-хай, удачи тебе в жизни, девушка-грамотейка! Растаяла я совсем. Газели Машраба так трогают душу… Удивительный был человек Машраб, истинный подвижник! — прослезившись, говорит старуха.
Читая прозаические вставки, Каромат порой, замявшись, чуть приметно улыбается, опустив непристойное выражение, читает дальше.
— Что это такое? Читай подряд, чертенок, мы тоже хотим послушать, — говорит тетя Рохат.
Сестрёнка краснеет.
— Нет, не стану я читать Машраба. Лучше Физули.
— Газели Машраба исполнены мудрости, — говорит старуха, качая головой. — Он — великий подвижник, влюбленный в бога. Ради аллаха он отрекся от удовольствий и наслаждений этого мира. — Она легонько похлопывает Каром по спине. — У тебя такой милый голосок, жертвой мне стать за тебя, читай же!
Сестренка читает:
Я тоскую по тебе, а ты — не замечаешь горя,
Я так страдаю по тебе, а ты — холодная, как море.
Готов по слову твоему пожертвовать собою.
О, свет очей моих, о, жизнь, изранен я любовью.
— Ох-ох-ох! За такого поэта в жертву себя отдать не жалко! — говорит тетя Рохат, вытирая слезы.
— У Физули, говорят, сердце испепелилось от любви. Его любовные газели трогают душу, с ума сводят человека! — говорит старуха, приподнимая веки.
— Физули будто бы сильно был влюблен в дочь своей учительницы, но не смог соединиться с ней, и вся его жизнь прошла в тоске разлуки. От этого то в его газелях столько огня, печали и муки… Я так слышала, — говорит мать.
Я сижу на краю террасы, строгаю ножиком таловый прут и молча слушаю сестру. Любил я Физули.
— Мусабай! — неожиданно окликнула меня мать. — Сбегай на Шейхантаур. У меня шелк кончился.
— Хорошо, давайте деньги, — говорю я, вставая.
Мать дала мне образцы шелковых ниток, завязала в платочек рубль. Предупредила:
— Держи крепко, не потеряй, смотри. Слышишь?
На улице верхом на тонкой хворостинке скакал Агзам.
— Брось, тоже нашел игру! — говорю я. — Идем со мной на Шейхантаур.
— Да это я от скуки забавляюсь, — говорит Агзам, отбрасывая хворостинку. — Идем!
Улицей Ак-мечеть мы быстро шагаем на Шейхантаур. По пути задерживаемся ненадолго то у одной, то у другой кучки ребят, засмотревшись на игры, и бежим дальше.
Когда добежали до Шейхантаура, Агзам остановился у арыка и опустился на корточки на берегу.
— Посидим немного.
Подолами рубах мы вытираем пот с лица, жадно пьем, черпая воду пригоршнями. Вокруг медресе много вековых чинар, карагачей. В их прохладной тени кучки парней ведут оживленную дискуссию, спорят о чем-то. Кругом немало наркоманов — курильщиков анаши, опия.
— Тихо! — вдруг говорит Агзам, притаившись за деревом. — Сейчас мы проделаем одну штуку.
— Какую штуку?
— Попробуем незаметно бросить ком земли в наркоманов. Ох и интересно! Вот посмотришь.
Притаившись за деревом, мы бросаем комки в группу наркоманов. Те вздрагивают, оглядываются, вытягивая тонкие, с волосок, шеи. А какой-то бледный до желтизны, чахоточного вида человек поднимается, пошатываясь, кричит:
— Эй, кто это! — Качаясь из стороны в сторону, он делает два-три шага. — Кто это нарушил мой покой?!.
Я тихонько шепчу Агзаму:
— Идет, бежим! — и бросаюсь наутек.
Наркоман все же успевает схватить Агзама. Тот дрожит от страха, хнычет:
— Это не мы!..
— Выродок подлый! — Схватив Агзама за плечи, наркоман резко встряхивает его. — Комьями швырял, а теперь: верблюда видел — нет, кобылу видел — нет? Мерзавец, вот сворочу тебе скулу!
Я возвращаюсь, подхожу прямо к наркоману. Упрашиваю:
— Дяденька, отпустите его! Мы швыряли, правда, только не в вас, а в птиц целили… Вон, смотрите, сколько их на деревьях.
— Эй, отпусти, не обижай мальчишку! — кричит кто-то из сидящих в чайхане.
Народу в чайхане много. Наркоман оглядывается. Желтый весь до белков глаз, он еще раз встряхивает Агзама и скрывается в приземистой темной хибарке на берегу арыка. А мы убегаем.
По сторонам улочки тянутся ряды галантерейных и мануфактурных лавок. Лавчонки все маленькие, жмутся друг к другу впритык. Мы задерживаемся перед каждой лавкой. Глазеем на товары, справляемся о цепах на свирели, мячи, прислушиваемся к спорам между покупателями и лавочниками, наконец, останавливаемся перед малюсенькой лавчонкой.
Я здороваюсь с хозяином:
— Ассалам алейкум! — Протягиваю ему рубль и образцы шелковых ниток.
Галантерейщик — рыжеватый человек с длинной бородой, скромный и обходительный, улыбается:
— Ваалейкум ассалам! — Спрашивает: —Так, значит, цветной шелк понадобился, да? Хорошо, хорошо. Шелков у нас много, сынок. — Поглядывая на деньги, он начинает перебирать образцы. — Так, светло-зеленый — цвета капустного листа, желтый — цвета тыквы… вишневый, фисташковый, бледно-розовый…
А мы с Агзамом засмотрелись на птиц в клетках, стоим притихшие.
— Дядя! — говорю я взволнованно, показывая на одну клетку. — Это что за птица?
— Это, сынок, соловей. Слыхал о такой птице — соловей? Самая редкостная из птиц!
— Слыхал, мама говорила как-то, что они прилетают на заре, когда расцветают розы. И как поет слышал, а видеть не видел, — говорю я и упрашиваю старика: — Дядя, заставьте его спеть!
Старик тихо смеется:
— Сам же ты сказал, сынок, что соловей прилетает, когда расцветают розы. Он же влюбленный в розу…
— Дядя, а что он ест — соловей?
— Червей ест, сынок, понял? — улыбается старик и продолжает: — Держать соловья трудно, очень он привередливый. Но зато если запоет, за сердце хватает…
Агзам дотронулся рукой до второй клетки:
— Я видел такую птицу.
Это был скворец, черный, с желтым клювом.
— Ия тоже видел! — подхватываю я. — И как поет слышал. Дядя, когда же поют ваши птицы?
— Поют, малыш, когда желание явится. Возьмет вдруг и запоет.
Старик протягивает мне сверток с мотками разноцветного шелка. Я бережно прячу его за пазуху и оглядываюсь па Агзама.
— Постой, не спеши, посидим немного. А вдруг запоет какая-нибудь.
— Что ты! Разве станут они петь на базаре при таком шуме? Идем! — шепчет Агзам.
Мы уходим. Вдруг слышим, запел скворец. Я останавливаюсь, как вкопанный:
— Вот, не говорил я! А какой голос, голос какой!
— Ну его, идем на большую улицу, на конку посмотрим, — говорит Агзам и тащит меня за руку.
Мы спускаемся вниз на большую улицу. Мимо проезжает конка.
Эх, опоздали! — горюет Агзам. — А то проехались бы, прицепившись сзади.
— Да, неудачно вышло! — соглашаюсь я.
И мы мелкой рысцой бежим домой. -
III. В степи
Раннее утро. Приятной свежестью веет ласковый ветерок. В воздухе стоит переливчатый звон птичьих голосов. Под сводами виноградников в придорожных садах, словно подвешенные напоказ, свисают тысячи тугих кистей. Ягоды скороспелого чилляки уже рдеют первым румянцем.
Мы с Агзамом едем на арбе. С чувством трепетного волнения и восторга мы любуемся нежным шелком голубеющего неба, непередаваемой красотой медленно проплывающих мимо садов, полных волшебной музыки, звонких трелей.
Вчера, когда я пришел из школы, мать развешивала на веревке только что выстиранные мои ситцевую рубаху и бязевые штаны. Она встретила меня улыбкой.
— Завтра едешь! — сказала она.
— Куда? — встрепенулся я.
— В Янги-базар поедешь. Только что был один человек. Неожиданно появился. Вдруг, слышу, кто-то стучит в ворота. Выхожу, а это, оказывается, от отца. «Пусть, говорит, Мусабай будет наготове, завтра на рассвете заберу его с собой». И Агзам едет, тоже отец вызывает. Я уже сказала его матери.
Я не помнил себя от радости. Перед глазами у меня сразу возникли степь, горы. Казалось, я уже вижу казахские аулы, могучих верблюдов, быстрых коней.
И вот, чудесным ранним утром мы с Агзамом едем, несказанно радостные и довольные.
Арба тяжело нагружена. Мешки и ящики с сахаром, с чаем, с ламповыми стеклами, нитками, иголками и тому подобным товаром. Арбакеш наш — немногословный человек, тихий и ласковый. Прикрикнет на лошадь: «Чу!», хлестнет разок плетью и — скуки ради, наверное, — тихонь ко замурлычет про себя какую-то песню.
Подъехали к чайхане, которая прилепилась к берегу канала Зах, бушующего здесь в глубоком яру. Арбакеш натягивает повод, говорит, сходя с лошади:
— Слезайте, мальцы, слезайте!
Мы с Агзамом разом спрыгиваем с арбы.
— Это место называется Гышт-купрюк, — объясняет нам арбакеш. — Здесь мы ненадолго выпряжем коня—. пусть отдохнет животина, поест клеверу.
Возле чайханы много арб, лошадей, ишаков. В чайхане полно народу. Шум, гомон. Кипят два огромных в грязных потеках самовара, нечищенных, наверное, с прошлой осени.