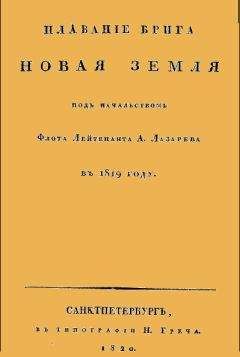Владимир Сапожников - Счастливчик Лазарев
В порту меня успели уже похоронить, и когда я вернулся, на меня смотрели, как на воскресшего из мертвых. Выкарабкаться из грозы — это, конечно, чудо, и я стал после того поглядывать в небо: а вдруг окажусь в том квадрате, где квартирует бог-отец? Надо же, думаю, поблагодарить, сказать доброе слово и вообще потолковать как мужчина с мужчиной…
Охотился я однажды на рябчиков, забрался на высокую, господствующую над окрестностями сопку, поздоровался с богом, пригласил на беседу. Газетку расстелил, выставил бутылку «экстры», балычок, икорку. Сам выпью, ему налью. Все хорошо, только не говорун он, бог, как оказалось. Всего-то и выдал мне старую истину: «Бог-то бог, да сам не будь плох». А товарищ хороший, все вертолетчики это подтвердят, любого спроси.
Ни к чаю, ни к коньяку Женька не притронулась. Она лежала на спине, тень веточки, словно невидимая буква-иероглиф, качалась у нее на лице. Женька не спала, ресницы у нее вздрагивали, но едва ли она слушала Артемовы байки о боге.
Вот чего не умел Артем: представить Женьку обиженной, жалкой, плачущей. Его Женька вся была соткана из счастья, радости… Так все переиначил, перевернул фокусник-материк!
Кто же он, человек, отбросивший Женькину любовь? Какую свою мечту она полюбила в нем?
«Мариша! Мариша!» — звал кулик с тоскливой безнадежностью.
— Я тебя узнала, Артем, — все так же не открывая глаз, сказала Женька. — Вспомнила. И то воскресенье вспомнила. Море, сосны… Ты сильно изменился, Артем. Три года! Показалось, три столетия. Прости, мне целый день хочется плакать… Не сердись, ладно?..
Артем не сердился, ведь Женька вспомнила его. Это же чудо, что и в ее душе то воскресенье оставило какой-то след…
Она поднялась на локтях, пристально посмотрела Артему в глаза:
— Ты вчера сказал, что возил мою фотокарточку в кабине своего вертолета. Это правда? Зачем? Ах да, вспомнила: как талисман. Я тебе… нравилась? Да? Скажи, что это правда, Артем! Пожалуйста. Даже если это неправда…
Она и сегодня не верила ему и хотела лишь убедиться в своей нужности хоть кому-нибудь. Первому, кто окажется рядом. И оказался рядом он, Счастливчик Лазарев!
Поколебавшись немного, — хотелось сказать, что он пошутил вчера, но жалко стало девушку, — Артем достал завернутую в целлофан пачку фотографий, подал ей. Ничем иным он не мог ей помочь. Медленно перелистав все, Жечька долго разглядывала «Море». Пожелтела, поистрепалась карточка, но все так же, как три года назад, сияла Женькина улыбка.
— В то воскресенье я была влюблена в тебя, Артем. Даже плакала. Такой чудесный день! Весь день — солнце. Правда, ты приехал ко мне? Ничего не говори, я верю. Сегодня верю. А вчера… совсем была слепая… Значит, я кому-то была нужна? Господи, моя фотокарточка была талисманом! И в грозу она была с тобой? Когда ты чуть не сгорел над сопками? Иди сюда, Артем. Садись вот тут. Я не хочу, чтобы сегодняшний день забылся. Как тот. Иди же. Смотри, березка расписала небо загадочными знаками — черным по белому. А в ветках — золотая паутина: солнце…
Женька бросила себе на глаза светлую прядь, замерла. В своем несчастье она была пугающе красива, как бывает красива молодая осинка, тронутая одна-единственная в лесу первым морозом.
Артем поднялся, кинул ремень ружья за плечо.
— Спасибо, Женя, что узнала, — сказал он. — Я пойду похожу по озерам, а ты усни. И никуда не уходи, одна ты заблудишься.
9
С утра навалились на Никитина дела и дела: минуты не нашлось, чтобы позвонить Сурену. Повеселее стало ему, когда сын вернулся из Москвы, не один теперь завод на уме. Рядом близкий человек, жизнь которого по-настоящему только начиналась.
Как-то получалось, что виделись они с сыном не каждый день: Никитин уезжал из дому рано, когда Сурен еще спал, а вечером — то у Сурена лекция в Доме ученых, то он сам засидится на заводском партсобрании.
Отношения у них оставались самые сердечные, истинно родственные: Сурен слушался Никитина, как слушаются родителей не мальчики, а двенадцатилетние девочки, — с какой-то даже влюбленностью.
Никитин подошел к окну кабинета, распахнул створки. Только что ушел сосед-плиточник со своими инженерами, договаривались о строительстве нового отстойника, накурили. Сел за стол и совсем уже собрался позвонить Сурену в институт, но под левой лопаткой сильно толкнуло торопливым сдвоенным ударом. Он достал из ящика патрончик с валидолом и, положив под язык таблетку, откинулся в кресле. Нет, нельзя сейчас звонить: Сурен по голосу догадается, что ему худо, это выведет парня из равновесия, а оно-то теперь как раз ему больше всего нужно.
Повезло Никитину с сыном — хороший он человек, умница, но с детства без матери, без женской ласки, и Никитин испытывал перед ним какое-то странное чувство вины.
Он долго разыскивал его мать, всюду посылая запросы, — сильно тосковал по ней Сурен. Да и сам Никитин успел привыкнуть к этой не по-южному спокойной женщине. Получив адрес, отправил несколько писем в литовский город Паневежис. Ответ пришел из Архангельска — длинное письмо было закапано слезами. Она благодарила Никитина за чуткое отношение к сыну, просила прощения, что не могла полюбить Никитина, но клялась, что боготворит его как человека, Человека с большой буквы, с сердцем из чистого золота. Она уверяла, что была счастлива те полгода, когда они жили втроем, но в конце письма просила не тревожить ее больше, забыть навсегда… Никому, даже сыну, не показал Никитин это письмо.
Не любили его женщины, что-то в нем отпугивало их. Или недоставало?
Два года назад он стал замечать, как с робкой нежностью смотрит на него молодая женщина, лаборантка из массозаготовительного цеха. Она была хороша даже в рабочем халате, высокая, с темными волосами, уложенными короной. Все говорило, что это женщина порядочная, добрая, но Никитин сделал вид, что не замечает ее безмолвных призывов. Напротив, при случае говорил с ней холодно, официально, почти сурово. Звали ее Серафимой Сергеевной, работником она числилась отличным: посмотрел-таки Никитин ее личное дело, поговорил с начальником цеха. Никитин и сейчас помнил ее взгляд, который ловил на себе даже из зала собраний, — покорный, застенчиво-призывный. Наверное, стала бы она хорошей хозяйкой дома, доброй женой, но подумал Никитин о разнице в годах — двадцать пять лет! — и о своей болезни: бессовестно женщину в расцвете сил превращать в сиделку. Впрочем, неизвестно, как все обернулось бы, прояви Серафима Сергеевна настойчивость, но однажды Никитин узнал, что она уволилась.
В приемной слышались голоса, что-то говорила Маргарита Назаровна, секретарша, с которой Никитин проработал все шестнадцать лет. Кого-то она не пустила к нему; наверное, Тихонов рвался насчет столовой. Маргарита Назаровна давала Никитину четверть часа отдыха после шумного разговора с соседями: она всегда выкраивала эти пятнадцать минут для его колченогого сердца.
Понемногу отпустило, толчки в боку притупились, притихли. Никитин пододвинул альбом-календарь, открытый на сегодняшнем числе. Все, намеченное на сегодня, он, конечно, помнил, еще по дороге разбросал по часам весь день, но завтра-послезавтра что-то забудется, а это недопустимо. И он изобрел этот самодельный календарь, который не без гордости называл «бортовым журналом». Что сделано, что не сделано, что предстоит сделать… Тихонов — бесплатные обеды; массозаготовительный — наладка новой шаровой мельницы; литейный — большой брак при обжиге: проклятый тальк никак не держится в глазури; цех художественного литья — заказ на гончарную стелу-монумент. Везде надо заглянуть, кого-то похвалить, на кого-то поднажать, посидеть десяток минут в мастерской художника-скульптора Устина Зарецкого, а то, не дай бог, опять почувствует себя «одинокой, никому не нужной бездарью»— и запьет…
Шестнадцать лет капитаном корабля чувствовал себя Никитин. Все эти годы на одном мостике, не передвинувшись ни на ступеньку выше по служебной лестнице. Говоря языком военным, Никитин не выслужил ни звездочки, но из допотопной «гончарни», выпускавшей канализационные трубы, выпестовал, взлелеял современный керамический завод с валом на дюжину миллионов рублей, со своим жилмассивом, с доброй славой предприятия, откуда рабочие не увольняются. Новое это было дело — завод для полковника Никитина. В сущности, после ухода из армии прожита еще одна жизнь вот тут, на этом пятачке заводской территории, и только история о том, как переводили производство с глины на фаянс, с фаянса на полуфарфор и фарфор, — целый роман, кстати, еще не законченный: все еще плохо держится в глазури проклятый тальк, стекает при сушке и обжиге…
В окно Никитин видел, как над слабо курящейся трубой плыли белые легкие облака, облака-барашки, облака-пушинки. Плыли они рядами, белизной и легкостью напоминая раковины, только что сошедшие с конвейера. Сидя в кресле, Никитин закрыл глаза, позволяя себе минуту полного покоя, и ему казалось, что он слышит течение самой жизни, музыку человеческого труда, всю бескрайность земли. Виделась ему высокая байкальская заря над сопками, замершие на морском рейде корабли, слышался гул прибоя, рев «катюш» в артподготовке. И вдруг подступила тишина, она плыла над уснувшей в камышах речонкой, над родной избой со скворечником, над краем детства. Колдовски прекрасна была эта тишина с сонным лепетом текущей воды, хотелось по-детски рассмеяться от счастья. Ах, Никитин, что-то неладное с тобой творится сегодня, разомлел, размечтался…