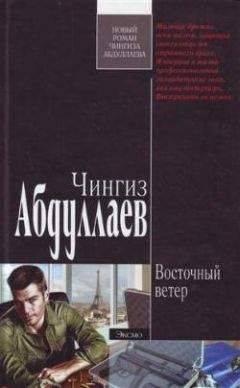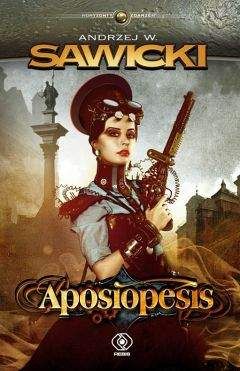Михаил Найдич - Утренняя повесть
Фимка выплюнул на ладонь полушку и с любовью осмотрел ее:
— Евунду ты гововишь. Ее, возможно, Екатевина или сам Петв девжали…
— Ладно, кто бы ни держал, глотать не советую. И спорить с тобой не стану.
— Думаешь, подавлюсь! Нетушки, пвеспокойиенько пвойдет.
Я махнул рукой, показал, что не хочу продолжать подобный разговор. И тогда Фимка выразил желание без всякой «американки» проглотить полушку. Не успел я остановить его, он мгновенно слизал ее с ладони и запрокинул голову. Под пупыристой кожей заходил быстро-быстро кадык, Фимка, как в цирке, грациозно развел руками: «Готово!»
— Ты хоть кипяченым молоком запей, — посоветовал я.
— Можно — с готовностью согласился он. — Полезу в погвеб, сойдет и сывое.
Соколов вышел из комнаты. Мне подумалось, что надул он меня: спрятал монету за щеку, а теперь перепрячет. Прогулка в погреб ему на руку.
Как бы то ни было, Фимка скоро появился, облизывая белые капли, предложил мне:
— Беви задавма остальные монеты, а то вмиг поглотаю. Можно вместе с ковобкой.
Я испуганно глядел на него, потому что сперва подумал, что он и коробочку будет глотать.
— Беви, беви, я в них больше не нуждаюсь и в музей не хожу. Там одна ветхость!
Отказаться я не мог. Правда, я давал слово Денису, да и монетки здесь ерундовые, но если не возьму, он, чего доброго, начнет их глотать. А потом — засорение желудка. И кто виноват? Я. Все начнут: «На твоих глазах происходило. Почему не принял меры? Не сигнализировал?» Я вздохнул и положил коробочку в карман.
— Меня, понимаешь, в стовону искусства потянуло, — продолжал Фимка, — в квужок балалаечников или еще куда.
Как человек, недавно ушедший из музыкалки, я не одобрил решение Соколова и скривил губы. Моя безобидная гримаса вызвала у него приступ гнева:
— Шо ты понимаешь! — закричал Фимка. — Может, во мне вундевкинд сквывается! А ты меня за квылья хватаешь.
— Я не хватаю.
— Не хватаешь? Посмотви в зевкало на свое выважение.
Я повернулся к зеркалу, чтобы взглянуть на выражение лица. Но, кроме веснушек и рыжеватого чуба, ничего подозрительного не увидел. И все же я чувствовал себя виноватым. Ведь Фимка, казалось, напрочь забыл о том, что я его заставил прогуляться в трусиках. Все монеты отдал. А я… неблагодарный, никак не могу оценить его талант!
Но какой же я товарищ, если не огражу его от напрасных стараний? Начинать заниматься музыкой в пятнадцать лет, по-моему, дикость. Могут, понятно, быть исключения, но здесь не тот случай, ей-богу. Ну, научится Фимка тренькать на балалайке «Во саду ли в огороде», а дальше?
Чтобы отвлечь Соколова от его новых планов и поделиться своими, я начал говорить о днепровских островах. О Хортице, о Запорожской Сечи, так ярко описанной Гоголем. Ведь я для этого и пришел, собственно… Фимка слушал и ничего не понимал: почему такой внезапный переход? Лицо его становилось недоверчиво-хмурым. Но когда я рассказал, что мы с Людой и Ольгой собираемся уйти на «Тимирязеве» до конца лета, Фимка от радости подпрыгнул:
— Ха-ха! Вот что вы задумали! А ты мне Гоголя поешь: «Тиха укваинская ночь, пвозвачно небо, звезды блещут…»
— Ну, это, положим, Пушкин, а не Гоголь…
— Плевать! Ты мне гоголями-моголями здвавый смысл не затуманивай. Вы с Людкой пвосто задумали свадебное путешествие. Со своей любимой Людочкой.
— Ты, тип! Ты что, с ума сошел? Фима победоносно смотрел на меня:
— Бвось! На мозги не капай, суду все ясно. — Он хлопнул ладонями, с силой потер их и засобирался.
Сердце мое упало: «Ну, все! Теперь Соколов разнесет по всему городу». Но я уже не защищался, не разъяснял. Мне опротивело все, и я ушел.
Сейчас, конечно, не было сил думать о чем-нибудь другом. Я представил себе, как Фимка прибегает к одному, другому: «Вы слышали новость? Невевоятную!..» Еще почему-то вспомнилось, как недавно наши мамы прибежали за нами в закусочную. Нет, теперь конец, Фимка растрезвонит всем на свете, он отомстит мне за проигранную «американку». Узнают учителя, вся школа. Пальцами будут показывать на нас, смеяться…
Я не расслышал, как бабушка несколько раз окликнула меня из кухни. Потом вздрогнул.
— Сережа, — просила она, — посмотри, не пришла ли машина с хлебом?
У нас во дворе склад булочной. Я выглянул в окно.
Шофер копался в моторе. Машина с поднятым капотом напоминала зверя, который железной пастью наполовину проглотил чумазого парня. Лишь сапоги да штаны остались.
— Ну, что там? — нетерпеливо спрашивала бабушка.
— Привезли, есть бел-хлеб.
— Только белый? А ржаной?
— Тоже. Я ведь так… пошутил.
Просто у меня иногда появляется желание читать слова наоборот, а на машине написано «хлеб». Вот и получается бел-хлеб!..
Когда стемнело, я поплелся к Людмиле. Густые тени в переулках перемежались с лунным светом, нарезанным ломтями. Тени шевелились, шумели. Усиливался ветер. Деревья сердито хлопали листвой, потому что им хотелось броситься в объятия друг к другу, но это не получалось. Пыль поскрипывала на зубах, жгла глаза… Люда укладывала чемодан. Она спокойно подняла на меня свои серые глаза:
— Ну? Ты готовишься? Поговорил с мамой? Из всех вопросов, которые она могла мне задать, это был самый тяжелый.
— Нет, — ответил я, — не поговорил. Я не поеду, Людка.
Ее лицо оставалось прежним: не шевельнулись брови, не опустились ресницы, только задышала чуть сильнее.
— Раздумал? — спросила она.
— Да вот… не хочется нарушать планы. Тут я, понимаешь, целую программу наметил: стильное плаванье, хождение по азимуту.
— Понимаю, — перебила она меня и с силой налегла на крышку чемодана. — Помоги!
Я нажал коленкой. Щелкнули никелированные замочки. Верилось и не верилось, что завтра на рассвете Людмила с Ольгой уйдут на «Тимирязеве», в настоящий рейс. Работать…
— Пойдем, я провожу тебя, — сказала Люда. Мы вышли.
На пустынном тротуаре ее туфельки стучали вызывающе громко. Ритмично. И — независимо. Мы молчали. Она, конечно, не поверила моей болтовне. Планы. Хождение по азимуту. Что она, дура? Наверняка сейчас думает, что я работы испугался. В лучшем случае.
Хуже, если она догадалась обо всем, об истинной причине моей трусости. Разговоров испугался, пересудов.
Мы дошли до угла. Людмила протянула руку.
— Пока.
Я пожал ладонь. Она была холодной.
Я шел, не оглядываясь. Стук каблуков быстро исчез там, за спиной. Ветер продолжал неистовствовать, шумные тени деревьев бросились мне наперерез. По лицу хлестнула пыль, в глазах появилась резь.
Я беспомощно оглянулся. Нет, не видать Людки. Была б она рядом, мы подошли бы вон к тому столбу. Там яркий фонарь. Я бы достал из кармана платок. Она бы мигом вытащила соринку.
Так было однажды…
Где-то у вокзала прогудел маневровый паровоз. И даже отдаленный лязг послышался. Я живо представил железнодорожную колею. Убегает она по насыпи, прямая, ровная. И вдруг в каком-нибудь месте рельсы сдваиваются. Намек на новую дорогу. Плавно, постепенно из одной колеи получаются две. Какое-то время они еще бегут рядышком. Потом одна из них ныряет в туннель, а другая, забирая все больше вправо и вправо, пересекает рощицу.
И с каждым метром они все дальше друг от друга. Так расходятся дороги.
Каникулы были в разгаре
После отъезда Людмилы ничего в моей жизни внешне не изменилось. Только стал я избегать Соколова.
Однажды на проспекте все-таки встретился с ним. Я пил газировку, и он подошел.
— Пвиветик, значит, ты не на павоходе? Ответ на этот случай был у меня заготовлен:
— Ко мне должен приехать Павлик, вот и остался.
— Какой Павлик?
— Двоюродный брат из Кривого Рога, тоже школьник.
— А-а… — Фимка, кажется, поверил.
На пляже он показывался редко. Видимо, записался в кружок балалаечников…
А от Дениса я теперь и на шаг не отходил. Даже ночевал у них частенько.
Во дворе мы ставили три раскладушки. Ростик спал на средней. Мне нравилось его попугивать:
— Знаешь, почему мы тебя в середку упрятали? Вдруг во время сна бандиты нападут на нас… Тогда, прежде всего, мне достанется или Денису. А ты — в центре, понял?
Но Ростик был не из пугливых. Посмотрел он на меня, как на помешанного.
— Ты чего, Сережка? Какие здесь бандиты? Да я во сне каждый шорох слышу на двести метров.
Может быть, и правда слышит? Тишина-то вокруг необычайная. Если засыпаешь дома, в помещении, почти всегда перед сном слышишь тягучий глухой звук. Будто в отдалении нескончаемо тянется и тянется обоз. Отчего это? Наверное, в комнату звуки проникают, как в морскую раковину: приложишь к уху — монотонно шумит.
А на дворе тишина. Она подчеркивается высокими небесами, щедрым звездным посевом, редким шорохом птичьих крыльев. Ти-ши-на.