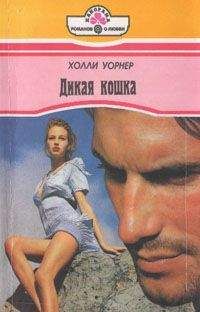Николае Виеру - Дикая кошка
НЯ ПЕТРАКЕ ПАЛАДИ: Что мне было делать, когда я их увидел в дверях? Она стояла, стыдливо пряча лицо, а он весь так и сиял. Я впустил их в дом.
Я сразу понял, что дело нешуточное, и заспешил к жене в соседнюю комнату.
— Йордан женится! — сказал я ей.
Жена побледнела, шитье выпало у нее из рук.
— Что ты надумал? — спросила она меня.
— Я-то ничего, а вот Йордан женится.
— Как женится?
— Иди к нему, он в каса маре с дочкой Добрина.
— С добриновской? Но она старше его, — сказала жена упавшим голосом, когда поняла, что это не шутка. — Добриновскую взял! Она в девках засиделась, мэй, муженек! Что на него нашло? — продолжала жена не вставая.
— Ну и засиделась, — начал я почему-то защищать сына, — а поищи-ка другую такую в селе.
— Что в ней такого, скажите на милость, что равной в селе ей нет?
— Она красивая, мэй, жена! Понимаешь? Ну что ты расселась? Говори не говори — все едино. Тут они, в доме, и я знаю, что ты их не выгонишь.
Жена подумала еще немного и, видно, поняла: сына не переупрямить. Крутой нравом, раз Йордан решил — быть по его, хоть умри.
— Ну пошли, жена, — сказал я, — накроем на стол, пожелаем им долгой, счастливой жизни. Мельтешись не мельтешись, а куда деваться? Девка красивая, ловкая в работе. Перезрелая малость, ну так что? Вон дед Добрин с мэтушей Катицей не одногодки, а ладно-складно живут.
— Горе их ладу! Пройдет Дорикэ мимо дома птицелова, тому будто кирпич на голову валится. А сколько лет прошло?
— Про разное говорим. Дорикэ, сама знаешь, как женился. Наш Йордан — дело другое. Ну, ну, шевелись, жена. Надолго мы их одних оставили.
Жена подала на стол, что нашлось в доме, — холодец, салат из огурцов и помидоров, закуски. А я спустился в погреб и принес бутыль вина.
Стол был накрыт, и мы сели напротив них. Жена расплакалась. Я прикрикнул на нее, потому что и у меня повлажнели почему-то глаза, когда я разливал вино в стаканы. Мэй-мэй, как про то рассказать? Мой сын женится… Мы подняли стаканы.
— За ваше здоровье, — сказал я им.
— Нет, — сказал Йордан, — сначала за ваше, тата.
— Ну? — спросил я, будто и не догадывался.
— Беру ее в жены, — сказал Йордан.
— Ох, мамина люба, подождал бы, пока из армии вернешься. Что за спешка?
Йордан пожал плечами, будто и сам не знал, а девушка потупилась.
Пускай люди говорят что хотят, а я, старый человек, как глянул на ее светлое лицо, будто и сам помолодел и не мог сдержать улыбки. Зачем мешать им? Глаза у нее большие, черные, губы как распустившаяся роза. Кто ею не залюбуется? Хотел бы я на такого посмотреть. Может, один Михай, сын деда Дорикэ, но парень сызмала не совсем того, а может, люди просто болтают и не случилось того, что будто случилось. Стоит попасться людям на язык, сам черт не разукрасит тебя похлестче.
— Ну ладно, — сказал Йордан, и все встали.
Ушли они — куда, старому человеку не годится спрашивать. Про то знают они сами.
ИОАНА: Иордан, ночь укутывает нас прохладой и тишиной, слышишь, как шелестит воздух? Обними меня, Йордан, покрепче, поцелуй меня, Йордан, не гляди, что я стою с опущенной головой, я первая не брошусь тебе на шею, не прижмусь к груди, не могу, Йордан… гляди, гляди, Йордан, вон вишня на краю дороги расцвела, посреди лета расцвела, к чему бы это, Йордан? Давай постоим под ней немного, видишь, какая она белая, одинокая, какой у нее запоздалый цвет? Хоть поздно, да зацвела она, Йордан, не могла не зацвести. На других деревьях плоды созрели, а вишня только-только цветами покрылась, будто говорит нам: ничто никогда в жизни не поздно, Опустись пониже, луна, спой нам, освети своим светом нам жизнь, пускай она будет такой же чистой, как твои лучи.
9
Дед Дорикэ пробормотал что-то во сне, перевернувшись на постели. Потом встал и тихо, чтобы не разбудить спящего Добрина, сказал:
— Мэй, Михай, скажи, почему ты мне ни одного письма не пришлешь? Что с тобой, сынок? Ладно, ладно, может, ты сердишься на меня, но на том человек стоит, что умеет забывать и прощать. Не копи зла на меня, если сказал тебе что необдуманно, ладно, Михай?
Через приоткрытую дверь в чабанскую сторожку падал неяркий лунный свет. Дед Дорикэ нашел ощупью свои старые сандалии, сунул в них ноги и пошел к двери. Было за полночь, но зори еще не взошли. В холодном, бесстрастном свете луны лицо деда Дорикэ казалось очень бледным.
— Ну что ты молчишь, Михай? Ты, верно, обиделся тогда, последний раз, когда я был у тебя в гостях? Я сказал, что ты совсем заучился и в Кишиневе и в Москве. Учился столько лет, а что толку? Вот Урсаки — другое дело… Оба вы начинали одинаково, а чего только нет у Урсаки? Дом что тебе дворец, машина, семья. Чего еще надо? Знал бы ты, как живет Урсаки! А ты? У тебя одна комнатенка, где двум парам хоры не сплясать, спинами в стенку упрутся. На это ты разобиделся? Если на это, скажи прямо: «На это» — и дело с концом. «Зачем живет человек на земле?» — спросил я тебя, а ты что ответил? «Ох, тата, тебе не понять, ну ее к лешему, эту жизнь, набиваешь дом добром, вещами, а жизнь проходит мимо». А я не успокоился: «Мэй, Михай, а что говорит Николета, твоя жена? Она с тобою в согласии?» И я посмотрел на свою невестку, а она покраснела, небось не раз морочила тебе голову: «Мэй, Михай, спустись из своих заоблачных высей на землю, сделай что-нибудь, чтобы нам получше жилось». Я не прав, мэй, Михай? Я не учил, не советовал тебе жить ради добра и тряпок, про которые ты говоришь с таким презрением. «Дело твое, но оденься и ты, как все люди, и жену приодень, и своди ее поразвлечься, бре, куда-нибудь, приголубь… тебе лучше знать куда, я, старый человек, что могу посоветовать; а ты сам разве не видишь, сохнет у тебя жена, увядает до времени, когда она жить-то будет по-людски? А ты со своими экспериментами да науками и про себя-то забыл, забыл, на каком ты свете живешь. Раз я тебе сказал про это, ты и рассердился и не пишешь мне теперь? И Урсаки не пишешь? А с ним что у тебя? Я еще тогда попробовал расспросить тебя: «Что у вас с Урсаки, мэй, Михай? Почему ты ему не пишешь? Он все спрашивает про тебя». Ты как-то странно посмотрел на меня и пожал плечами: «Ничего». Дед Дорикэ не видел тогда лица Николеты, которая обернулась к нему и, наверное, хотела что-то сказать. Но откуда ему про то было знать?
Овцы спали в загоне. Большой чабанский пес не мигая глядел на деда Дорикэ. Тот подошел к нему и погладил его по жесткой влажной шерсти.
— Мэй, Михай, ты думаешь, я к тебе на поклон явлюсь? Умру, но не приеду, даже если узнаю, что хоронить меня не захочешь, до могилы не проводишь. Все равно не приеду, так и знай.
И дед Дорикэ снова и снова припоминал последние споры с Михаем, когда сын не стерпел, вспылил:
— Оставь меня в покое, тата. Не лезь ко мне в душу. Чего ты хочешь? Ты думаешь, я виноват, что Николета несчастлива? Разве я не предупреждал, что ее ждет? Она выбирала, не я, нас было двое — я и Урсаки. Она вышла замуж за меня, так что мне теперь, из кожи лезть, чтобы угодить ей? Может, по курортам возить? В ее-то возрасте? В тридцать лет? Старая она, что ли? Больная? А меня ты не спросил, сколько лет я не отдыхал? Не беспокойся, я не устал. А она устала? Я нет, а она да? Что я могу поделать? У меня нет времени ни для кого. Понимаешь? Нет времени, и все. Откуда я его возьму? Может, ты сделаешь день длинней, тогда и поговорим. Ты сердит на меня, мол, я ничего не замечаю вокруг, кроме работы. Хотел бы я знать, кто мне вбил в голову сызмала: «Работай, Михай, трудись, иначе человек — ничто, он должен работать в поте лица, а главное, любить труд». Это мои слова? Или твои? А ты сам что делал всю жизнь? Надрывался с зари до поздней ночи… Разве я этого не видел? И я научился работать, и работа мне нравится, я не могу жить без моих наук, как ты говоришь, что ты от меня хочешь? Чтобы я изменился? Что мне делать? — Под конец Михай кричал в полный голос, а дед Дорикэ удивленно смотрел на него.
— Ты что психуешь, мэй, Михай? Что с тобой? Ну ладно, не надрывайся я, я бы сдох, а тебе какого черта это надо?
— И я бы сдох. Жажда меня мучает, тата, и я не могу ее утолить. Жажда больших знаний. Ты не знаешь, какая это болезнь… и я не могу себя переделать. Я был и остался крестьянином, упорным во всем… Чем больше имеешь, тем больше хочешь. В этом мое богатство, другого у меня нет, другого мне и не надо. И ты и Николета должны понять эго и оставить меня в покое.
Дед Дорикэ погладил подбородок.
— Может, ты и ученый, Михай, а все равно дурак, — сказал он сыну.
Потом встал, взял домотканые сумки, в которых привез кое-что сыну, и пошел. В дверях отец постоял немного, обернулся к Михаю, который собрался провожать его, и сказал:
— Иди, мэй, домой, вокзал я и сам найду. Иди. И знай, я, отец, тебе говорю: дурак ты, Михай, ничего в жизни не понимаешь. И не тебя, ее вон, невестку, жаль.
Старик хлопнул дверью и зашагал пешком на вокзал, глядя со своей, крестьянской, высоты на горожан, торопящихся бог знает куда по нагретому асфальту.