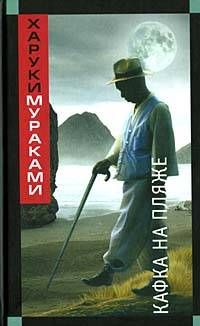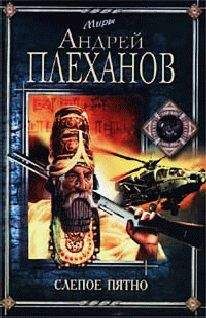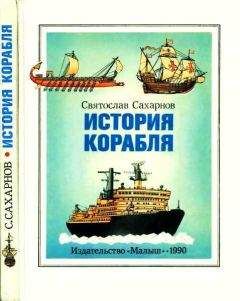Ада Рыбачук - Остров Колгуев
И все это выглядит вполне естественно.
— Ну я же говорила. Я так и знала, что белил не хватит!
Белил действительно не хватит. Того, что осталось, хватит одному недели на две, а ведь работают двое…
К кому взывать о помощи? В Киев далеко…
Два дня сочиняем радиограмму о красках: «Архангельск, Косцову». Кроме масляных белил, нам нужны еще и гуашь и бумага. Как рассказать в радиограмме, чтобы было все понятно?
Дни после ухода солнца похожи на дни, когда ушел пароход.
Из какой-то давно рассказанной сказки я помню, как первобытные люди, глядя на заходящее солнце, каждый раз боялись, что оно не покажется снова над горизонтом, и призывали его заклинаниями, и задабривали жертвоприношениями. Как они радовались, наверное, эти люди, когда оно появлялось вновь!
Оно появилось, как всегда, на юге, за торосами, сперва только ярко-красной черточкой; это было даже не солнце, а только свечение воздуха, но солнце уже шло к нам. Потом мы увидели его огромный раскаленный край и какой-то неровный, изогнутый полукруг.
Все оставалось таким же — белые берега, белые торосы; только в белом небе у горизонта несколько минут в день плавилось красное пятно. Пятно росло, и вместе с ним росла еще не радость, а какое-то неясное ощущение ее.
Солнце растет быстро. Еще бесформенное, оно уже подымается выше, с каждым днем становится ярче, и, наконец, заливает небо и белое море, и освещает остров — весь — таким же ослепительным, сияющим, как оно само, ощутимым, весомым, материальным светом, несущим радость, несущим жизнь.
Только чтобы увидеть, как появляется, рождается для дня солнце, и только чтобы пережить эту радость, стоило прожить здесь эту ночь, эту зиму.
Есть еще одно ощущение, немного схожее с ожиданием солнца. Это ожидание самолета.
Как можно ждать самолета, как начинаешь волноваться и радоваться, когда над поселком вдруг раздается звук его мотора, уверенный и утверждающий звук, напоминающий, что есть и другая жизнь, — все это можно понять только там, где самолет зимой — единственная связь с Большой землей, с другой жизнью.
Сколько раз островитяне выходят осматривать прибрежный лед в поисках достаточно ровного и достаточно большого ледяного поля, годного для посадочной площадки, сколько раз ожидающим на льду людям была радиограмма, что самолет вылетел, — мчащаяся от острова упряжка несет новую весть: самолет вернулся, встретив непогоду…
Сколько раз островитяне с отчаянием смотрят, как море ломает и без того далеко не идеальную площадку, как на ней появляются торосы.
Звук приближающегося самолета! Его ни с чем нельзя спутать, ошибиться нельзя.
Вот мы его услышали. Еще не верим.
— Самолет…
В сознание вживается этот равномерный гул, вдруг победивший тишину полярной зимы, но ведь самолета не ждали — сегодня не ждали, о нем не предупреждали радиограммы, для него не искали посадочной площадки…
Значит, посадки не будет…
И все же из всех домов выбегают люди. С лаем мчатся собаки.
Самолет делает круг, второй.
Какой он великолепный над снегами!
Теперь понятно — летчик ищет ручей или речку невдалеке от поселка: на ровно замерзшем льду — мягкий и глубокий снег.
К ручью уже мчатся собачьи упряжки — у кого были под рукой. К ручью бегут люди, на ходу сбрасывая шапки, подхватывая рукой полы малйц.
Бежим и мы.
Зачем? Попробуйте не побежать.
В самолете письма, написанные нам, газеты, посылки, кинофильмы; но важно даже не это, не сами эти письма и газеты — важна та большая жизнь, которая послала к нам этот мощный и равномерный, уверенный гул мотора, важен он сам, самолет, воплотивший в своих формах, в самом своем движении человеческую волю, человеческую мысль, преодолевший опасное пространство, победивший тишину.
Самолет делает третий круг, и от него отделяются темные комочки — один, второй, третий. Четыре.
Самолет делает еще один круг, покачивает над ручьем крыльями. Все.
Набирает высоту, удаляется.
Удаляется гул его мотора — увеличивается тишина над островом.
Все стоят и смотрят вслед самолету. Пока он совсем не растворится в просторе неба, пока хоть чуть слышен его гул, никто не подбирает мешки с почтой — с письмами, связками газет, посылками.
К бумажным мешкам привязаны красные флажки — их далеко видно на снегу.
Бумажные мешки привозят в одну из комнат фактории — здесь вдруг умещается весь поселок, включая и собак.
Пахнет одеждой из оленьих шкур сырой выделки, тает снег на обуви — его не выбивают. Не до этого.
Последний пакет. Адрес: «Колгуев, художникам». Под веревкой маленькая записка: «Достал почти все. Белил — 100, кобальта — 60; гуашь не достал. По совету художников посылаю мел, красители в порошке и столярный клей. На всякий случай пишу рецепт приготовления, сделаете сами. Вместо бумаги посылаю потолочные обои, все равно белые. Еще два лимона — больше не было. Спирт от себя оторвал. Всегда приду на помощь, желаю успеха. Радируйте. Александр Косцов».
Вспоминаем, что Саша Косцов не знал наших фамилий…
Март — самый холодный в году месяц. Месяц, «когда скрип полозьев слышен от края до края земли», поется в немецкой песне. Но в марте уже светит солнце — все равно уже весна.
Собаки, одурев от блаженства, щурясь, сидят на солнце и даже пропускают возможность устроить драку или накинуться на кого-нибудь всей лохматой, ощетинившейся сворой, наполнив поселок оглушительным лаем.
День в марте еще короток, и когда мы, вымыв кисти и тщательно отмыв руки, выбираемся в гости, поселок уже голубеет в свете звезд.
Идя в гости в дома, где стойко живет запах недавно снятых и выделываемых «по-сырому» оленьих и нерпичьих шкур, нужно очень тщательно мыть руки: ненцы не выносят запаха керосина или скипидара. Банки с керосином держат плотно закрытыми, на специальных вешалах вдали от домов; бутылку со скипидаром или керосином, которым мы разводим краску или моем палитры и кисти, брезгливо, двумя пальцами, вытянув руку, выносят из чума; налить лампу — пренеприятное дело; знакомый старик в Каре, наш друг, всегда просил Володю покупать ему керосин и заправлять лампы; перед приходом гостей нам нужно было основательно проветривать и без того не слишком теплый дом, чтобы хоть немного удалить из него постоянный запах скипидара и краски, который мы уже совершенно не ощущаем.
Дверь из сеней в кухню завешана шкурой от холода, который врывается белыми клубами. В дом надо входить, как в чум, треугольником откидывая конец шкуры. Мы уже научились так входить — островитяне говорят, что сперва мы это делали, как нерпы, выбирающиеся на лед.
В кухне выбиваем снег из одежды и обуви, особенно из подошв, специальной плоской палкой, нередко украшенной орнаментом. Снег, тающий на одежде, портит шкуры.
Глаза привыкают к свету ламп. Одна из них стоит прямо на полу, другая на квадратной дощечке, подвешенной на медных цепочках, — так подвешивают лампы (или светильники с нерпичьим жиром) в чуме, где нельзя прибить (некуда) полку.
В доме живут немного как в доме и немного как в чуме. Стоят большой стол и табуретки, но чай пьют, чаще всего сидя на шкурах, которые постланы на полу, за маленьким привычным столиком.
Печку тоже топят, как костер, подкладывая по одному обычной длины поленцу, пока не закипят чайники. Кухня — самая теплая и самая тесная часть дома: здесь больше всего вещей.
В кухне развешаны по стенам пучки сухой травы, из которой делают стельки и вяжут коврики — подстилки. Здесь же висят гусиные крылья — для веников; оленьи, со спины и ног, сухожилия — для ниток; на вешалках, устроенных над печкой, как в чуме над костром, сушится меховая одежда и обувь.
Растянутые на палках, сушатся нерпичьи шкуры и шкурки птиц, чаще всего гагар; висят набитые мхом чучела бельков, детей нерпы, с разноцветными суконными ресницами и такими же яркими суконными носами.
Остальные стены в доме украшает огнестрельное оружие различных систем. Здесь есть все: завезенные еще норвежскими купцами, вышедшие из употребления на родине ружья, двустволки и мелкокалиберки новейших марок, немецкие трофейные карабины и ружья совсем уж загадочного происхождения.
В кухне над очагом висит закопченный котел, в котором по вечерам варят мясо, и другой, в котором варят еду для собак; низко в углу на медных цепочках висит перекочевавший из чума медный умывальник — ковшик.
На столе стоят ведра со снегом; под столом — ящик, в котором живут ябто-ко — найденные летом в тундре гусята; в этом же ящике живут щенки.
За кухней следуют комнаты. Они выглядят чрезвычайно современно: кроме стола и табуреток — никакой мебели. Необходимость кочевать не позволяет обзаводиться громоздкими и лишними вещами — человек должен обходиться немногим, жить налегке. Вещи не должны лишать его свободы.