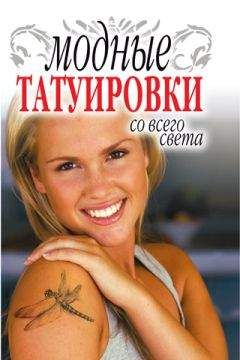Вениамин Каверин - Косой дождь
— Итальянцы утверждают, что, не побывав на Фьезоле, нельзя уезжать из Флоренции.
— В самом деле?
Он шел за ней, уговаривая и начиная сердиться.
— На такси, — сказал он и покраснел, когда она засмеялась.
Они прошли вдоль левого нефа, а потом рядом с ними вдруг оказался Токарский. Не торопясь, он встал между ними, спиной к Аникину, и сказал:
— Валерия Константиновна, вы видели Мазаччо?
— Что это значит? — пробормотал Аникин.
— Не видели? Непростительно. Пойдемте, я покажу.
Аникин вернулся в гостиницу. Невозможно было затевать ссору. Ладно, повременим. Там видно будет. Ему уже не хотелось на Фьезоле, но, чтобы досадить жене, он все-таки поехал. На худой конец нужно было хоть взять с собой кого-нибудь, знающего итальянский язык, но Анечка ушла, а Лариса, сильно покраснев, отказалась.
Он знал, что это было отчуждение, как бы само собой сложившееся в группе вокруг него и жены. Он плевал на это отчуждение, да, впрочем, и на самую группу!
— Русси? — улыбаясь, спросил шофер и повел рукой, свистнув и показывая спутник, летящий к небу.
— Русси, русси, Фьезоле, — ответил Аникин.
Холмы блестели под солнцем, склоняющимся к закату. Огибая церковь с красноватыми куполами, зубчатые стены поднимались в гору.
— Сан-Миниато? — спросил шофер.
Аникин кивнул. Он не жалел, что поехал. Это было действительно чудо. Он поднялся к церкви, а потом, обогнув ее, пошел в гору, вдоль зубчатых стен. Вдоль другой стороны дороги тянулись, поблескивая, оливковые сады.
Он вспомнил детство, деревню. Жалея себя, он шел с открытой головой под теплым, несильным летним дождем, скатывающимся с серебряных листьев оливок.
Лир было действительно мало, и Аникин вернулся пешком, купив назло жене соломенного осла с добродушно-иронической мордой. Он подарит его кому-нибудь, может быть, Пете. Он вспомнил о сыне с тем чувством неуверенности, которое в последнее время постоянно испытывал и которое, разговаривая с ним, старался скрыть под шутливым тоном, дружеской откровенностью мужчин между собой. Петя молчал, об откровенности не могло быть и речи. О чем он думает, сидя над своими книгами, сочиняя свою музыку, очень странную, но талантливую, как уверяет Миллер? Как он рассердился, когда мать стала уговаривать его ездить в училище на машине! Впрочем, это хорошо, что ему не нравится родительский способ существования. И еще лучше, если после училища он года два пошляется с геологическими партиями или поработает на заводе.
Но было что-то фальшивое в той беспечности, с которой он думал о сыне. Если есть на свете человек, которого он не то что боится... А, вздор!
24
— Что это он к вам привязался?
— Предложил поехать на Фьезоле.
— Смотри пожалуйста! Какая честь.
— Мне понравилось, как вы встали между нами.
— Правда? Я скучаю без вас.
— А если бы не скучали?
— Встал бы все равно. Постойте, о чем я думал ночью? Ах, да! Вы говорили, что ваш Игорь летом собирается в Крым. Пускай заглянет в Чуфут-Кале. Вы там были?
— Нет.
Что-то прошло по лицу Валерии Константиновны, глаза потускнели. Токарский подумал: «Значит, сын» — и заговорил о другом.
— А еще, — сказал он, — я ночью читал стихи.
— Свои?
— Нет. Заболоцкого.
Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то.
Была неказиста она, небогата,
.Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен,
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.
— Как хорошо!
— «Закрыты решетками» — это о господине, пригласившем вас на Фьезоле.
Из Санта-Мария Новелла они вернулись на площадь Синьории. И хорошо сделали, как сказал Токарский, потому что это была как раз та самая площадь, на которую нужно возвращаться и возвращаться. Они шли по набережной, когда в воздухе засверкал блестящий, стремительный, праздничный дождь. Он был косой и падал на Флоренцию, подхваченный где-то в высоте бесшумным порывом ветра. Миллион фонтанчиков вспыхнул и прокатился по Арно. Дождь шел несколько минут, но потом долго в освещенном воздухе чудились легкие косые серебристые нити.
— Расскажите, какой у вас сын?
— Вам интересно? Хороший.
— Еще.
— С толстым носом. Румяный. Невысокий, но крепкий. Он очень похудел в последнее время, — сказала Валерия Константиновна с огорчением. — Он велел мне записывать. А я, оказывается, не умею.
— На вашем месте я бы записал, например, этот дождь.
— Боже мой, что вы выдумываете! — развеселившись сказала Валерия Константиновна. — Ну как можно записывать дождь?
— Этот можно.
— Почему?
— Потому что он нарочно пошел.
— Нарочно?
— Да. Чтобы запомниться.
Они помолчали.
— А у меня нет сына, — грустно сказал Токарский.
— Вам бы хотелось?
— Всю жизнь.
— Ну хорошо. Я вам сейчас все расскажу, — сдерживая вдруг подступившие слезы, сказала Валерия Константиновна. — У меня есть близкая подруга, очень близкая. Она знает. Теперь будете знать и вы, Алексей Александрович. Почему вы, человек, с которым я познакомилась неделю назад? Не понимаю. Но я действительно не умею притворяться.
25
Хотя Невзглядов не рассказал Игорю ничего, что помогло бы выяснить, где, когда и при каких обстоятельствах отец пропал без вести, он ушел с таким чувством, как будто что-то очень важное уже произошло в том трудном намеченном деле, которое Игорь твердо решил довести до конца.
Отец, оказывается, служил в разведке! В начале войны он с Невзглядовым ходил за линию фронта, в Титовку. У него тогда еще не было звания. Они не спали четверо суток, выполнили задачу, вернулись в Мурманск и получили каждый по двести пятьдесят рублей и благодарность. Потом группой в двадцать человек они ходили на диверсии, валили столбы, минировали дороги. «Хуже всего — неизвестность, — сказал Невзглядов. — Идешь, голова, как шар, вертится: откуда ударит?»
В мае 1942 года они прошли знаменитую «лощину нервов» — пять километров по открытой тропе. Прошли, свалились, и Невзглядов спросил: «Андрей, где мы сейчас с тобой были?» И отец ответил: «Ага». Однажды они приняли бой на берегу озера, в тумане. Отец потерял каску, надел немецкую, и Невзглядов сказал ему: «Сними, дурак. Или ты хочешь, чтобы свои убили?»
Потом Невзглядов рассказал, как отца однажды приняли в темноте за грузина, передразнили акцент — это было в расположении полка, — и он, не раздумывая, кинулся в драку. Он был вспыльчивый, но отходчивый. Любил выпить, но кто тогда не любил?
Он был ранен весной сорок третьего года, а уже из госпиталя попал на батарею. Невзглядов больше не встречался с ним, только слышал стороной, что у него была какая-то неприятность. Понятно! Ему нечего было делать на батарее. Что такое разведчик? Движение!
Игорь провел у Невзглядова все утро и не ушел бы до поезда, если бы хозяин не сказал, что ему пора на работу. Он служил в Инспекции морского пароходства. Игорь пошел провожать его, и на взгорье, с которого открылся залив, Невзглядов показал ему порт — мастерские, доки, краны торгового флота, судоремонтный завод и снова краны и краны. Он в последний раз вскинул на Игоря голубые обнадеживающие глаза, похлопал по плечу и ушел.
Далекие, как бы перекликающиеся шумы, доносились из порта, вдалеке над берегом дымился снежок, и Игорь с чувством счастья смотрел на эти берега, на порт, как бы застывший и находящийся в непрерывном движении, на темно-стальной блеск моря, на небо, которое было так не похоже на привычное московское небо.
«Хороший товарищ», — сказал об отце Невзглядов. У Игоря задрожали губы. Он найдет его, как бы это ни было трудно. Нашлись же защитники Брестской крепости, которых вся страна пятнадцать лет считала пропавшими без вести?
— И не открытки, — сказал Невзглядов, — а письмо в Главное Управление кадров флота. Ответят. А когда будешь писать отцу — поклонись. Он меня помнит.
Игорю захотелось есть, но он не пошел в столовую, а купил батон и ломоть холодного вареного вкусного мяса. Это было весело — бродить по незнакомому городу, не зная, что откроется за углом. Он забрался на памятник Жертвам американо-английской интервенции, состоявший из прямоугольников и лестниц и выглядевший современным, хотя был построен в двадцатых годах. Потом он вернулся на проспект Ленина и на этот раз прошел его до конца. Сорок три, сорок пять, сорок семь... Дома снова стали плавно проходить перед ним, хотя теперь он шел неторопливо, и сердце билось спокойнее и с надеждой.