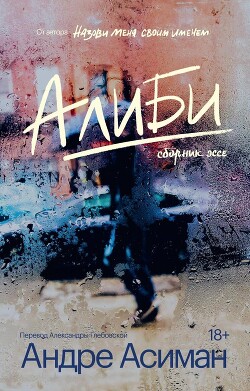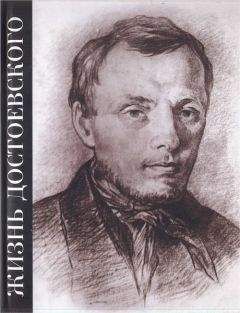Восемь белых ночей - Асиман Андре
– Глаз не сводила?
– От тебя, право же, свихнуться можно. Олаф, объясни ему. Иногда мне кажется, ты нарочно ничего не хочешь видеть. Как будто боишься, что придется раздеваться рядом с людьми, которые тебе не безразличны, – и не дай бог они увидят твою пи-пи.
Как только Рейчел вышла, Олаф не сдержался:
– Все они суки.
– Не исключено, что она права.
Олаф передернул плечами, имея в виду: «Может, и права, все равно сука».
Жена попросила его заказать на вечер ящик шампанского, а у него это напрочь вылетело из головы – теперь он переживал, вдруг не успеют вовремя доставить. А потом, с обычной экспансивностью облапив меня, он возгласил обычную свою прощальную фразу: «Доблесть и честь», – и еще прибавил: «Пусть стоит крепко!»
– Это и есть та, о которой ты собирался мне рассказать?
– Да, – сказал я.
– Оно и похоже.
– А что твоя? – спросил я.
– Не спрашивай. Тебе лучше не знать.
Если сейчас позвонить Кларе, можно предложить пойти за продуктами с ними вместе. Я так и вижу нас всех троих в забитом покупателями магазине. Смех. Смех. «Яйца, – так и вижу, как она это произносит, – завтра на утро нужны яйца».
Я был на седьмом небе.
Боюсь только, дорого ты за это заплатишь.
Добравшись в середине дня до дому, я решил немного поспать. Или тем самым я хотел начать заново этот крайне удачный день, пережить его еще раз? Или меня манили чистые наглаженные простыни – хрусткие, плотно натянутые, слегка подкрахмаленные, как раз как я люблю? Или манило полуденное солнце, котом свернувшееся на кровати – где, я знал, я сейчас задремлю под звуки музыки?
Я пообещал позвонить ей через несколько часов, и теперь мне больше всего хотелось приголубить самые смутные мысли о ней, забрать их с собой в постель – так забираешь желание, подозревая, что оно никогда не сбудется, и все же, как только закроешь глаза, начинаешь освобождать от шелухи его тельце, слой за слоем, лист за листом, как будто надежда – это артишок, сердцевина которого спрятана так глубоко, что можно позволить себе неспешность, тихий шаг, шаг назад, в сторону, бесконечность.
Если нам не суждено стать любовниками, или друзьями, или просто приятельствовать – что ж, можно избыть во сне и это. В тогдашнем настроении плевать я хотел, что мне могут сделать больно, как хотел плевать и на то, что ей будет больно. Забраться в постель, свернуться калачиком, подумать, что она рядом, тела наши льнут друг к другу, ластятся, как две половинки Венеции, пространство между нами мы назовем Гранд-Канале, а пешеходный мостик – моим Риальто. Моим вороном. Моим Гвидо. Моим Лохинваром. Моим Финнеганом. Моим Фортинбрасом.
Почему ты не пришла на ужин?
Потому что услышала обиду в твоем голосе.
А чего ничего не сказала?
Знала, что ты сердишься и опять станешь прибегать к околичностям.
Каким околичностям?
Да вот таким, как сейчас.
Можно я тогда тебе кое-что скажу?
А ты не думаешь, что я уже и так знаю, не думаешь, что я знаю?
Ах, Клара, Клара, Клара.
Проснулся я ближе к шести. Три пропущенных звонка на автоответчике – дважды трубку повесили, один раз звонила Клара. Неужели я спал так крепко, что не услышал ни гудков, ни ее голоса, когда включилась запись? Я прослушал сообщение – по непонятным причинам, вздорное, усталое. «Хоть бы трубку снял!» Проверил мобильник. Никто не звонил. «Я повсюду звонила. Подумать только – убить столько времени на поиски этого жалкого, жалкого типа». Я почувствовал в груди онемение, подступающую тошноту. Неужели я настолько беззащитен? Вся радость разом вытекла после единственного сообщения на телефоне?
Я-то думал, мы накануне помирились, а сегодня в «Старбаксе» она так рада была меня видеть – не отнимала руку от моего лица с того момента, как я выскочил на мороз ей навстречу. А теперь такое? Пятичасовая тьма постепенно поглощала день, и тут до меня дошло, что нет худшего способа подступиться к Новому году. Это предвестие года наступающего или финал предыдущего, ужасного? Или, говоря словами Олафа, пока рано загадывать?
Тут я сообразил. Это сообщения от вчерашнего вечера, не сегодняшние. Отсюда вся эта ярость! Понятно, чем объяснялся ее резкий тон, когда я позвонил от Рейчел!
Я побрился, неспешно принял душ и – привлекая удачу – решил сделать в точности то же, что и неделю назад – зайти к маме: надеть те же черные ботинки, ту же темную одежду, даже тот же ремень; потом – выскочить, схватить первое же такси на боковой улочке, прямиком к маме, думая те же мысли, на которых поймал себя и неделю назад: надеюсь, она здорова или более или менее здорова, надеюсь, задерживаться у нее не придется, надеюсь, она не станет вспоминать о нем, не забыть потом купить две бутылки, в точности как неделю назад, потом вскочить в М5 – выгадать время, чтобы посмотреть в окно на снег, на куски льда, на редкие машины на Риверсайд-драйв, при этом не думая ни о чем, или можно подумать об отце, или забыть о нем подумать, как оно было неделю назад в автобусе, когда я пообещал, что подумаю о нем, а потом позволил мыслям уплыть в сторону.
Мама сидела в самой дальней части квартиры, у себя в спальне, так что, открыв дверь, пришлось шагать по длинному темному коридору; проходя мимо закрытых дверей, я включал свет: она держала старые спальни и ванные под замком, потому что, по ее словам, к ночи делалось студено. Видимо, ей надоела иллюзия, что в доме кто-то есть, она отгородилась от них запертыми дверями. Ее старая свекровь, муж, мой брат, моя сестра, я.
Я обнаружил ее за видавшим виды «Зингером» – она подрубала юбку. «Почти никто ко мне больше не приходит», – сказала она, имея в виду: ты появляешься слишком редко. Не знала, выбросить юбку или починить. Чинить вроде бы разумнее. Не получится – выкинет. В любом случае, хоть есть чем заняться, сказала она. А я чего-то уменьшился.
Я собирался в автобусе подумать и о ней. Но то одно, то другое – я знал, что могу забыть об этом начисто. Буду думать о Кларе. Когда я был здесь в последний раз, я еще не познакомился с Кларой, еще даже не знал, не догадывался, что принесет мне эта ночь. Представляете? Пришел сюда, застрял ненадолго за незначительным разговором, вышел, купил шампанского, сел на М5 – совершил столько бессмысленных поступков, и все они произошли в жизни, в которой еще не существовало Клары. Какова была жизнь до Клары? Я пытался припомнить старые времена, на деле вовсе не такие уж старые, когда мы на Новый год устраивали дегустацию вина, закрывали этикетки на бутылках и умудрялись надуть даже тех из гостей, кто считался знатоками. Вспомнил тогдашнюю толпу знакомых – гости клубились в гостиной, на столах пирамидами высились закуски и десерты, мамин чернослив, запеченный в беконе, а мы ждали, когда выяснится, какое вино признали самым лучшим, – смех, шум, мама носится туда-сюда, чтобы результаты голосования обязательно поспели до полуночи, а потом – папины вечные извинения за то, что он снова произнесет прошлогоднюю стихотворную речь. Уверен, ему бы понравилась Клара.
Снаружи, на балконе, где стояли и охлаждались бутылки, он попросил бы меня ему помочь, прежде чем начать вытягивать пробки. Мы постояли бы неподвижно на холоде, в одних рубашках, глядя на черно-белую ночь над Манхэттеном, вслушиваясь в эхо веселой вечеринки из набитой квартиры в соседнем доме, сегодня тому два года, «Вот у них настоящая вечеринка, а у нас одна видимость». Отвел бы меня в сторонку и произнес с оттенком сварливости, и чего бы тебе на ней не жениться, что на деле означало: «Женись уже хоть на ком, роди детей, пока мы еще живы, – лучше сразу близнецов, чтобы побыстрее». А потом, сменив тему, он посмотрел бы сквозь стеклянную дверь в переполненную гостиную: «Полюбуйся на свою мамочку, за всеми ухаживает, кроме меня, Ксантиппа строптивая, вот она кто».
Я обвязывал одну бутылку за другой красными бумажными салфетками, чтобы скрыть этикетки, а потом крепко приматывал салфетки скотчем, который отец прижимал пальцем – так он поступал всегда, когда помогал мне заклеить неподатливый пакет, – тем самым извиняясь за импровизированную тираду по поводу детей и близнецов и за хроническую сварливую нотку в голосе.