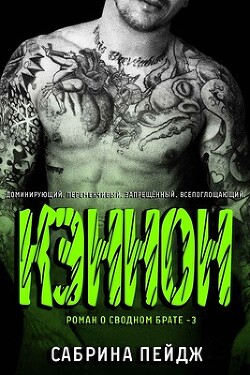Среди овец и козлищ - Кэннон Джоанна
Эрик откинулся на спинку кресла и принялся грызть ногти. Прежде он грыз ногти только ребенком. Возможно, прошлое уже ушло в небытие, подумал он. А может, и наоборот. Все абсолютно не сомневались в том, что тогда случилось, но, быть может, настоящее уже успело заползти в наши воспоминания, взбудоражить и перевернуть их, и если так, то прошлое не будет казаться столь определенным, как хотелось бы думать.
7 ноября 1967 года
Чтобы добраться до больницы автобусом, надо сделать две пересадки. Каждый из этих отрезков пути недолог, нет времени хоть немного расслабиться. Дорога коротка и извилиста, на ней полно светофоров, объездов и острых углов. Эрик Лэмб сидит с маленькой сумкой на коленях, автобус раскачивается, он сам раскачивается, стараясь не задеть сидящих или стоящих рядом людей и не соскользнуть с сиденья в проход или же наступить кому-то на ногу. Ко времени, когда автобус подъезжает к больнице, он уже весь вымотан от этих усилий, от всех этих стараний никому не причинить беспокойства.
Другие пассажиры входят и выходят из автобуса, он через окна наблюдает за жизнью проходящих мимо людей: за парами, которые шепчутся друг с другом, за матерями, которые пытаются совладать с детскими колясками и сумками с покупками. За молодым человеком с книгой, страницы которой переворачиваются одновременно с кренящимся автобусом. По мере приближения к больнице попадается все больше людей в униформах – темно-серых, которые носят санитары, и сестринских, бледно-голубых. Мелькают тапочки, в них ходят по коридорам. Кто-то почесывает лодыжку. Кто-то вытягивает шею. Униформы прячутся под пальто и куртками с капюшонами, таятся под кардиганами, но время от времени их все же видно, словно их обладатели должны всегда помнить, кто они такие на самом деле, сколько бы слоев одежды из другой жизни ни носили поверх.
Он навещает Элси. Навещает ежедневно днем и вечером, а в перерывах между этими посещениями возвращается домой, где созерцает пол, стены и пустующее кресло, где Элси привыкла сидеть. Он смотрит на это кресло и начинает тосковать еще больше, словно только что понял: жена была центром всего, а теперь ее нет, хоть весь дом обыщи сверху донизу.
«Анализы, – говорят они. – Нам надо сделать еще несколько анализов. Мы должны выяснить, почему вы такая бледная, слабая и худенькая».
– Просто я старею, – отвечает Элси с улыбкой, но доктор и не думает смеяться. Вместо этого тихо строчит что-то в своем блокноте, и звуки пера, царапающего бумагу, заполняют всю комнату. Лечь в больницу ей предложили через неделю, и она уложила в сумку свою лучшую ночную рубашку, домашние тапочки, книжку, которую в то время читала, и маленькое саше с лавандой – предназначения этого предмета Эрик никак не мог понять, в частности еще и потому, что всегда начинал чихать от запаха лаванды.
– Просто помогает мне расслабиться, – говорила она.
Он пытается выяснить, что еще ей нужно, чтобы расслабиться, но Элси лишь качает головой и сжимает его руку, и говорит, что постель здесь совсем другая, и еда непривычная, и что приходится весь день сидеть и ждать, когда появятся врачи.
– Успокойся. Ну что ты так всполошился, Эрик.
А он изо всех сил старается выглядеть так, будто ничуточки не волнуется, и от этих усилий над собой начинает волноваться еще больше.
Вот и сегодня он на всем пути по длинному серому коридору тоже старается сделать вид, что нисколько не беспокоится. В коридоре всегда полно родственников, ждущих, когда откроются двери. Он медленно проходит мимо отделений гинекологии, педиатрии и ортопедии, мимо тяжелых двойных дверей в операционный блок, мимо наполненного многозначительной тишиной отделения кардиологии. Перед ним простирается нечто вроде дороги жизни, и лишь в отдалении виднеются палаты онкологии и отделение паллиативной терапии. Здесь, в конце коридора, самые большие очереди – целые толпы людей, и все ждут, когда стрелки на часах покажут два, отсчитывают каждую секунду.
Палата Элси – третья от начала. «Палата 11, женская хирургия», – гласит вывеска на голубых дверях.
– Не каждый, кого помещают в хирургическую палату, попадает на операционный стол. – Медсестра, принимавшая Элси, увидела их лица. – Так что беспокоиться не о чем.
У них были все причины для тревоги, но Эрик уже научился управлять своими эмоциями, никак их внешне не показывать.
Сегодня Элси кажется какой-то особенно маленькой. Словно больница, палата и кровать поглощала ее, и она судорожно цеплялась за простыни, точно боялась, что может исчезнуть совсем, слиться с жесткими белыми подушками. Они поговорили о книге, которую она читала, о том, как идут дела в саду, о том, что погода может измениться, – словом, о разных мелочах. Такого рода беседу они могли бы вести без всякой задней мысли и дома, за завтраком, вот только здесь, у больничной койки, слова звучали как-то натянуто и фальшиво. Врачи уже завершили утренний обход, говорит Элси, приходила целая толпа в белых халатах. Были похожи на булочников, со слабой улыбкой добавляет она. Могли бы предложить свежую выпечку или полдюжины печений к чаю, тут она смеется. Нет, она не стала спрашивать их о результатах анализов. Они ведь невероятно занятые люди. Как-то неловко было их беспокоить. Но завтра она непременно спросит. Эрик разглядывал свои руки.
– Нормально ли ты питаешься? – спрашивает Элси. – Надеюсь, не только томатным супом? – И они снова выплывают на мелководье тем, и слова опять звучат фальшиво.
По дороге домой он раскачивается в автобусе из стороны в сторону, пытается прогнать тревожные мысли. В окнах проплывают мимо размытые акварельные улицы, ничего надежного, за что можно было бы уцепиться, ничего отчетливого, чтобы хоть немного отвлечься. Сиденья вокруг него то освобождаются, то снова заполняются, но людей он не видит, замечает лишь их очертания, смутные образы, скользящие вне встревоженного сознания. И лишь когда автобус сворачивает к их городку, лишь когда его глаза узнают знакомые очертания крыш, а тормоза шипят, пропев знакомую песню, ему удается, наконец, отвлечься от мыслей об Элси, о том, как она осунулась и похудела, – кожа да кости. Обручальное кольцо болтается на пальце…
И вот он медленно идет по тротуару, отмеряет время. У него четыре часа. Через четыре часа он поедет обратно в больницу, и это время надо чем-то заполнить – созерцанием, размышлениями, попытками отыскать карту, на которой обозначен его жизненный путь. Поначалу Эрик не замечает Сильвию. Та неожиданно возникает прямо перед ним, выскакивает словно из ниоткуда, лицо бледное от страха, губы дрожат, но она не в силах произнести ни слова. Он не видел такого ужаса двадцать пять лет. Со времени получения тех телеграмм. «С глубоким прискорбием вынуждены сообщить вам…»
Эрик ставит маленькую сумку на тротуар и кладет руки соседке на плечи. Но страх так глубоко проник в нее, что она не в силах пошевелиться. И тогда очень осторожно он спрашивает, что случилось, и повторяет этот вопрос снова и снова, пока, наконец, она не встречается с ним взглядом. Вначале она шепчет – так тихо, что Эрик едва различает слова, – и он вынужден наклониться поближе. Затем слова становятся громче, и в них звучит отчаяние. Она выкрикивает их на всю улицу, снова и снова, до тех пор, пока Эрику не начинает казаться, что не осталось ни единого человека на свете, который бы их не услышал.
– Грейс пропала! – кричит она, а потом закрывает уши руками, словно слышать ей самой эти два слова просто невыносимо.
Дом номер четыре, Авеню
7 августа 1976 года
На следующий день Тилли не пришла к дренажной трубе. Обычно она появлялась здесь к десяти, но даже после того, как мистер Кризи прождал на автобусной остановке с пяти до одиннадцати, даже когда он зашагал домой, глубоко засунув руки в карманы, она так и не появилась. А перед Христом сидели только миссис Форбс, выкрикивающая вопросы из кроссворда, да Шейла Дейкин, которая загорала и притворялась, что ее не слышит.