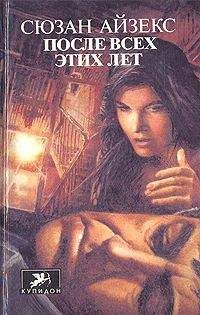Эффект Сюзан - Хёг Питер
Люди редко умеют слушать, но он умеет. Так умеют слушать только Лабан, близнецы и Андреа Финк. Он понимает все, все может прочувствовать.
— Есть какой-то план, — говорю я, — секретный план, эвакуация примерно четырех тысяч человек в случае военной или гуманитарной катастрофы. На остров Спрей, вы, безусловно, знаете о его существовании. Мы только что видели вас в фильме о нем. Другие западные страны купили другие острова, возможно, этот план транснациональный и предполагаются совместные действия для спасения небольшой части политической, научной, экономической и художественной элиты. Уже начата масштабная подготовка к переселению четырех тысяч человек, освоению острова, его энергоснабжению и охране. Все исполнители уже приступили к работе. Кто-то, похоже, уверен, что катастрофа приближается. Вы это обсуждали в канун Рождества, когда мы увидели вас в архиве?
Он ставит перед нами чай. Садится. Это человек, который изменил мое представление о датской демократии. Он живет ради дела, как Десмонд Туту, Горбачев, Кофи Аннан, Нельсон Мандела. Может быть, справедливость и здравый смысл все-таки существуют, если поискать где-то на самом верху системы. И через мгновение дети будут с нами. Через мгновение мы будем реабилитированы, вернемся в свой дом на Ивихисвай, на работу.
— Такого плана не существует. Это невозможно себе представить. Я бы знал о нем. И это невозможно в Дании. Но послушайте, Сюзан. Если бы Дания была кораблем? Большим кораблем. И вы бы были на борту, с вашими близнецами. Я видел вас на обложке «Time». Очаровательные дети. И вам бы сказали, что сейчас корабль пойдет ко дну. И в спасательных шлюпках есть место лишь для части пассажиров, что бы вы сделали?
Я молчу. Он встает. Подходит к окну. Смотрит на гавань.
— Постарайтесь представить это себе. Представьте корабль. У вас есть возможность спасти детей. И самих себя. Вы, Лабан, один из самых известных композиторов Дании. Если бы такой список существовал, вы были бы внесены в него. И Сюзан, и дети. Вы могли бы отказаться? У вас было бы право отказаться?
Он не смотрит на нас. Я разговариваю с его греческим профилем.
— Если бы он существовал, этот список? Мы все еще смогли бы в него попасть?
— Даю слово.
Мы замерли на месте, все трое. Он поворачивается к нам.
— Что касается основных проблем общественного устройства, то мы давно руководим нацией глухих. Тот, кто умеет читать, уже давно понял предупреждение.
Он направляется к дверям.
Даже сейчас, когда все потеряно, я чувствую желание прислониться к его патриотической прямоте и авторитету.
— Я сейчас найду хороших людей. Которые будут вас оберегать, пока вы размышляете об этом.
— Дети, — говорю я.
— Мне предстоит небольшая прогулка на воздушном шаре. Когда я вернусь…
Дверь за ним закрывается. Лабан хочет что-то сказать. Я делаю знак, чтобы он молчал.
Я достаю из сумочки ломик. И влажные салфетки. Ящики его стола заперты, я засовываю салфетки между деревом ящика и ломиком и отжимаю язычок замка. В верхнем ящике лежат ключи, фломастеры, скрепки, флэшки, два желтых клинышка, которые подкладывают под дверь, чтобы она не захлопывалась. Во втором — пачка бумаги, конверты, сургуч и печать. В третьем ящике лежит папка. В папке — список. Больше пятидесяти страниц, примерно по сотне имен на каждой. Я кладу список в сумку. Список и два клинышка для дверей.
При помощи ломика и салфетки я снова закрываю ящики.
Министр возвращается. С ним четыре человека, двое остаются за дверью.
Это не обычные люди. Это акулы, которые выбрались на берег, им сшили костюмы, научили ходить прямо и вежливо здороваться. Их движения неспешны. Они отходят в сторону, пропуская нас вперед.
Выходя из комнаты, мы останавливаемся перед Фальк-Хансеном.
— Прогулка на воздушном шаре. Это из старого Дома радио?
Он не отвечает. В этом и нет необходимости. Действует эффект, и я уже перехватила подтверждение из его системы.
— Надеюсь и верю, что когда-нибудь смогу отблагодарить вас за это, — говорю я.
За его плечами сорокалетний политический опыт, он стоял на капитанском мостике даже в самые турбулентные времена. И тем не менее я чувствую его беспокойство.
Мы уходим.
Акулы снуют вокруг нас. Я чувствую напряжение Лабана. Но и его решимость. Он тоже в чрезвычайном режиме. Мы уже больше не люди. Мы — биологические машины, которые заботятся только о выживании своего потомства.
Мы подходим к вращающейся двери, один из мужчин идет передо мной. Я похлопываю его по плечу.
— Дамы вперед.
Он замирает. Даже у акул когда-то была мать, которая все еще находится где-то внутри них, хотя они и стали взрослыми. Именно эта внутренняя мать заставляет его замереть.
Я захожу во вращающееся пространство, Лабан следует прямо за мной. В ту секунду, когда мне в лицо ударяет свежий воздух, я оборачиваюсь, наклоняюсь и ударом ломика вбиваю желтый пластиковый клин под дверь.
Вращающаяся дверь останавливается. Под открывающуюся для инвалидов-колясочников дверь я вбиваю второй клин.
Мы бежим к машине. Лабан садится за руль и дерзко петляет между машинами, словно водитель скорой помощи.
Он заезжает на тротуар перед Домом радио. Здесь много машин, много полиции.
Двое мужчин с гарнитурами встречают гостей, один в форме, другой в костюме, похож на начальника.
Человек в форме подходит к мне. Я чувствую галлюцинаторное смещение различных реальностей. Это молодой красавец-фигурист из казарм Сванемёлле.
— Я не мог спать, — говорит он. — После поцелуя. Я всю ночь парил в десяти сантиметрах над матрасом.
Надо быть поосторожнее с легкими поцелуями. Может, вы и раздаете их направо и налево, как чаевые. Но сердце влюбленного может воспринять один-единственный поцелуй как увертюру к «Ромео и Джульетте».
Несколько полицейских идут к нам, ситуация становится непредсказуемой. Но тут настроение меняется. На первый взгляд едва заметно, но на самом деле вполне отчетливо. Торбьорн Хальк оказывается рядом с нами.
Он более известен, чем Нильс Бор в свое время. Потому что про Бора не писали все время в СМИ. А если бы и писали, ему это было бы все равно. Торбьорн Хальк — знаменитость номер один в области квантовой физики в эпоху информационного общества.
Я беру его под руку и вцепляюсь в него мертвой хваткой. Он пытается освободиться, но у него ничего не получается. Мы идем вперед. Люди расступаются перед нами, дверь открывается, мы оказываемся внутри.
Заходим в лифт. Только сейчас я замечаю, что фигурист тоже с нами. Лифт поднимается. Двери открываются, в метре от меня — Торкиль Хайн.
Вокруг него стоят какие-то мужчины. Не двое или четверо. А десять или двенадцать.
Он нисколько не удивлен.
— Сюзан, вы усложнили мне задачу.
— Нас должны были увезти, — говорю я. — Но кто?
— Я.
Прекрасный голос, как сейчас, так и тогда. Теплый, живой, звучный, объемный.
Хайн делает шаг в сторону. Передо мной стоит отец.
Он снимает шляпу. Кремового цвета. Волосы рыжеватые, и не видно ни одного седого волоска. Ему должно быть около семидесяти, а выглядит он лет на двадцать моложе. Минимум на двадцать.
Он раскрывает мне объятья. И не успеваю я оглянуться, как оказываюсь там, где хочет оказаться каждая маленькая девочка, даже если ей сорок три года. В объятиях отца.
Он отстраняется и смотрит на меня.
— Сюзан! Сюзан!
Он произносит мое имя медленно. Пытаясь перекинуть мостик через тридцать пять лет, связать имя и воспоминание о восьмилетней девочке с тем человеком, который сейчас стоит перед ним.
Авторитет — удивительная вещь. Комната замирает. Несмотря на то, что вокруг нас от сорока до пятидесяти человек, каждый из которых играет свою роль в важном событии, которое уже в самом разгаре, все замирают.
Это молчание внезапно прерывает принц-фигурист.
— Я хотел бы просить руки вашей дочери.
Все смотрят на него. Возможно, эта фраза была актуальна во времена Шекспира. Но даже когда мой отец был мальчиком, она, скорее всего, уже вышла из обращения.