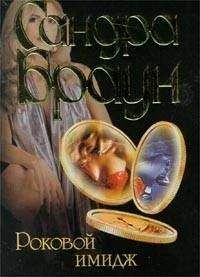Джулия - Ньюмен Сандра
Джулия раскрыла рот, чтобы спросить, с какой же целью проводятся такие ампутации, но вспомнила, что должна помалкивать, и прикусила язык. О’Брайен кивнул, как будто она уже согласилась на его условия, и сказал:
— Хорошо. Об этом мы условились.
Теперь атмосфера слегка разрядилась. Мартина отослали из комнаты. О’Брайен раздал сигареты. Джулия закурила, и на нее нахлынула усталость. Порученную ей роль она исполнила и вскоре будет отпущена. Может быть, Уинстона вот-вот арестуют и этот недостойный фарс завершится. Пока она боролась с дремотой, в голове что-то свербело, какая-то мелочь: уж больно гладко, как по нотам, разыгрывались и фрагменты этого спектакля, и взаимодействие О’Брайена и Мартина. Все это было неспроста, но от изнеможения она плохо соображала.
Тем временем О’Брайен мерил шагами комнату, засунув одну руку в карман черного комбинезона и жестикулируя другой — с сигаретой.
— Вы понимаете, — сказал он, — что будете сражаться во тьме? Все время во тьме. Будете получать приказы и выполнять их, не зная для чего. Позже я пошлю вам книгу, из которой вы уясните истинную природу нашего общества и ту стратегию, при помощи которой мы должны его разрушить. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами Братства. Но все, кроме общих целей нашей борьбы и конкретных рабочих заданий, будет от вас скрыто. Я говорю вам, что Братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно сто членов или десять миллионов. По вашим личным связям вы не определите даже, наберется ли в нем десяток человек. В контакте с вами будут находиться трое или четверо; если кто-то из них исчезнет, на смену появятся новые. Поскольку здесь — ваша первая связь, она сохранится. Если вы получили приказ, знайте, что он исходит от меня. Если вы нам понадобитесь, найдем вас через Мартина. Когда вас схватят, вы сознаетесь. Это неизбежно. Но, помимо собственных акций, сознаваться вам будет почти не в чем…
Джулия в панике очнулась и поняла, что клевала носом. О’Брайен находился в другом конце гостиной, а Уинстон, затаив дыхание, теперь подался вперед. Сонливость ее, к счастью, осталась незамеченной. Пальцы по-прежнему сжимали сигарету, да и столбик пепла вырос не сильно. По всей вероятности, отключилась она лишь на считаные секунды.
Но кое-что все же изменилось, и очень существенно: до нее дошло, почему ее терзали сомнения. Этот срежиссированный спектакль слишком уж походил на тот, что был разыгран при первом ее появлении в этой комнате. Если О’Брайен со всей очевидностью исходит сейчас из фантазий Уинстона Смита — тайное общество смельчаков, их поэтичная обреченность, — тогда что мешало ему с такой же очевидностью исходить из фантазий Джулии? Ведь что он тут ей пел? Что звание «Герой социалистической семьи» — свидетельство не трусости, но храбрости; что ей, в силу ее выдающихся качеств, самой судьбой предназначено членство во внутренней партии; что ее сексуальные похождения — это не слабость, а знак превосходства над стадом. Он даже назвал ее не как-нибудь, а шлюхой — Джулия и сама частенько именовала себя этим словом, с удовольствием примеряя его как отличительный знак возбуждающего стыда.
— В конце, когда вас схватят, — высокопарно вещал О’Брайен, — помощи не ждите. Мы никогда не помогаем нашим. Самое большее — если необходимо обеспечить чье-то молчание — нам иногда удается переправить в камеру бритвенное лезвие. Вы должны привыкнуть к жизни без результатов и без надежды. Какое-то время вы будете работать, вас схватят, вы сознаетесь, после чего умрете. Других результатов вам не увидеть. О том, что при нашей жизни наступят заметные перемены, думать не приходится. Мы покойники.
Тут Джулия подумала, что сейчас даже Уинстон, скорее всего, почует неладное. «Мы покойники»: это ведь его, Уинстона, излюбленное присловье. Должен же он понимать, что О’Брайен все время держал его под колпаком, а теперь, по сути, передразнивает. Еще один миг — и Уинстон начнет озираться, видя тюремщиков на месте друзей.
Однако ничего похожего не произошло; точно так же, как в свое время ничего похожего не произошло в спектакле, разыгранном для Джулии. Нет, понятно, что она тогда жутко перепугалась. Но ведь и обольщалась? Она вспомнила, как на полном серьезе спросила: «Что есть ненависть?» — и потом ловила каждое слово из ответа О’Брайена. Вообще говоря, в течение минувших недель она пыталась обучиться ненависти. Эту обязанность она приняла близко к сердцу, как будто ее духовное развитие целиком направлялось минилюбом.
Теперь-то она видела, что все это фарс. Никому и дела нет, что она чувствует, что думает и что собой представляет. Точно так же, как никому не было дела до ее злосекса и покупок на черном рынке. Для этих людей ни один из ее поступков ничего не значил. Проникнись она хоть всеми постулатами ангсоца, выполняй хоть все его заповеди, да хоть работай на минилюб — а все равно, когда им понадобится, ее убьют, как убили Маргарет, как убили Эсси; как обрекли на смерть Гербера — не за криминал, а лишь потому, что изоспецов тогда назначили козлами отпущения. Эх, как же получилось, что ее с такой легкостью заставили стереть из памяти весь житейский опыт?
Уинстон по-прежнему зачарованно и упоенно внимал О’Брайену: тот ему скармливал его же фразы. «Подлинная наша жизнь — в будущем. В нее мы войдем горсткой праха… быть может, через тысячу лет… против нас — полиция мыслей, иного пути у нас нет». Изобразив такое же сосредоточенное внимание, Джулия думала: «Это ни на что не влияет. Никому нет дела, кто я есть. Я ни на что не влияю». Она даже забыла, что в пальцах у нее сигарета. Впервые за долгие месяцы она ощущала здравомыслие, которое оказалось невыносимым. Она убила Уинстона. Она убивала его на протяжении всего времени, когда он пытался ее любить. Ее тоже убьют — в час, когда она меньше всего будет этого ожидать. Все это она в глубине души давно понимала — но понимать отказывалась. Другой жизни взяться было неоткуда.
Наконец, вновь посмотрев на часы, О’Брайен сказал Джулии:
— Вам, товарищ, уже пора. Подождите. Графин наполовину не выпит.
Он наполнил бокалы и поднял свой.
— Итак, за что теперь? — обратился он к Уинстону. — За посрамление полиции мыслей? За смерть Старшего Брата? За человечность? За будущее?
Немного подумав, Уинстон сказал осипшим от волнения голосом:
— За прошлое.
О’Брайен со значением покивал:
— Прошлое важнее.
Джулия больше не могла этого выносить. Она осушила бокал, а когда поднялась, О’Брайен дал ей знак остановиться и протянул какую-то таблетку.
— Нельзя, чтобы от вас пахло вином, — объяснил он. — Лифтеры весьма наблюдательны.
Она молча взяла таблетку и вышла, держа ее в ладони, а сама благодарила судьбу за то, что он не потребовал от нее проглотить это снадобье у него на глазах. Затворив за собой дверь, она сразу же опустила руку в карман и раздробила таблетку в складке ткани. Вряд ли это был яд, но здесь она ничему не доверяла.
Ее дожидался лифт. У открытых дверей стоял Мартин с непроницаемо-всеведущим лицом. Сколько раз он был свидетелем такого ритуала? Сколько Уинстонов лучилось благодарностью, выслушивая ложь О’Брайена? Сколько женщин исполняло отведенную Джулии роль и где они теперь, эти женщины?
На улице ее встретил закат. В этом внутрипартийном районе тысяча целехоньких окон светилась тысячей огней. В доме напротив бросалось в глаза окно с изумрудными бархатными шторами, аккуратно перетянутыми золотыми шнурами. Дальше открывалась просторная комната, где над поблескивающим пианино горел мягкий, теплый свет. Два бледно-голубых кресла по бокам от инструмента словно ожидали фортепианной мелодии, а развешенные по стенам полки были сплошь заставлены книгами в тканевых переплетах. Даже на потолке красовался лепной цветочный узор, а пианино стояло на прекрасном ковре — на своем, отдельном. Но что самое удивительное: в комнате не было ни души. Вся эта красота пропадала почем зря. На пианино без толку струился электрический свет — свет, где-то произведенный чьим-то трудом. Так и виделось, как часы незнакомой жизни без малейшей пользы изливаются на онемевшее пианино.
![Джулия [1984] - Ньюман Сандра](/uploads/posts/books/285676/285676.jpg)