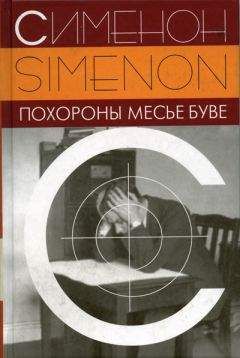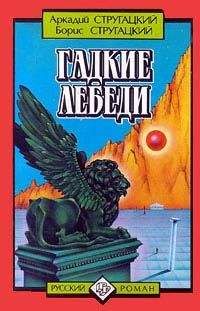Гадкие лебеди кордебалета - Бьюкенен Кэти Мари
Я посмотрела в лицо статуэтки и увидела гордость, мечты и желания. Подбородок у нее был поднят, но это ошибка — с таким лицом ей не на что надеяться. Уродливым, обезьяньим лицом. Я отвернулась, чувствуя спиной взгляд маленьких полузакрытых глаз.
Месье Дега не смотрел на меня и не интересовался моим мнением. Он глубоко погрузился в свои мысли. Я пожалела, что пришла.
Наконец он повернулся ко мне и сказал:
— Возможно. Возможно.
Он внимательно смотрел на позу статуэтки, позу, в которой я стояла так долго — ноги в четвертой позиции, руки сжаты за спиной.
— Не будете ли так любезны?
Я сбросила шаль и, зная, как он нетерпелив, оставила ее лежать на полу. Я быстро встала в точности так, как раньше. Мадам Доминик говорила, что памятью обладает не только разум.
Он просиял и чуть не захлопал в ладоши, но потом остановился.
— Нет. Вы больше не похожи ни на сильфиду, ни на крыску.
Он коснулся моего плеча, и в этом прикосновении я почувствовала сожаление. Ему жаль было, что девочки становятся женщинами, что мужчины начинают горбиться и опираться на трости, что цветы вянут, а деревья сбрасывают листья. Изящная детская спина, которую потянулся потрогать месье Лефевр больше года назад, исчезла. Вместе с ней исчез и интерес месье Дега ко мне. Ему нужны были душа и тело маленькой танцовщицы четырнадцати лет.
— Но ведь наброски не изменились, — сказала я.
Он поправил очки, открыл блокнот, и я узнала его прошлогодние рисунки.
Я хватаюсь за железную решетку, трясу ее, но она держится крепко. Вырвать ее не проще, чем разобрать кирпичный пол под ногами. Месье Лефевр — мой покровитель. У меня нет другого пути, особенно теперь, без Антуанетты.
Я хочу спрятать лицо в ладони, завыть, оплакать себя, Антуанетту, всех женщин Парижа. Почему мы вынуждены делать то, что хотят мужчины, почему мы прокладываем себе путь в жизни своим телом? За все приходится платить. Но согласилась бы со мной Антуанетта или сказала бы, что нет никакой платы — есть только то, во что ты сама хочешь верить? Я перевожу взгляд с одного тюремщика со скучающим лицом на другого, который вертит в пальцах пуговицу. Как считают они? Стоит ли девушке удовольствоваться тем, сколько готов дать за ее тело мужчина? Смогу ли я перестать думать об этом? Смогу ли перестать жалеть, что Антуанетта оказалась там, где оказалась? Научусь ли я спать по понедельникам?
Я смотрю на посетителей — вытянутые лица, морщинистые руки. Задается ли кто-то из них такими же вопросами? Зачем становиться проституткой? Зачем красть семьсот франков, особенно если после этого придется скрываться и бежать от всего, что ты любишь? От Шарлотты, от маман, от меня? Я закрываю лицо руками. Что она оставила здесь? Самовлюбленную Шарлотту? Пьющую маман? Меня?
Я зову человека, которого она любит, убийцей, хладнокровным мясником. Но это же правда. Я сглатываю, как научилась делать рядом с месье Лефевром — это позволяет избавиться от подступающих слез. Нужно просто начать думать о чем-то другом. О лавровых венках на ковре, о его розовой лысине. Глаза у меня сухие. Я складываю руки на коленях. В среду, когда Антуанетта попала в Сен-Лазар, в газетах написали, что какой-то парень признался в убийстве вдовы Юбер и поклялся, что Эмиль Абади ему помогал.
Мне нравится серое шелковое платье, которое на мне сегодня. Хотя, открывая обвязанную лентами коробку, которую протянул мне месье Лефевр, я надеялась на нечто другое. Не такое роскошное, конечно, как у дам в Опере, но, может быть, с вырезом поглубже, с кусочком кружева, с розеткой. Но мое платье строгое, серое, с высоким воротничком. Дочь банкира могла бы отправиться в таком на мессу. Возгордившаяся сестра проститутки — навестить ее в тюрьме. Я знаю, что не смогла скрыть разочарования, увидев содержимое коробки, и лицо мое потускнело. И сразу почувствовала холодок.
— Ты еще девочка, — сказал месье Лефевр.
— Мне пятнадцать.
— Неблагодарная девочка.
Я прикусила губу, хотя прикусить следовало язык. Когда рядом оказывался какой-то ценитель Оперы, Перо немедленно надувала губки. Когда я попыталась рассказать, что месье Лефевр вовсе не художник, Бланш закатила глаза:
— А что, розы у твоих ног ничего не стоят? Скажи ему, что я не такая недотрога.
Я погладила прохладный гладкий шелк.
— Такой мягкий. — Головы я старалась не поднимать, но все же посмотрела на месье Лефевра. — Я никогда не думала, что у меня будет такая красивая вещь.
— Ты одета кое-как. Пуговиц не хватает, ворот надорван, белье поношенное или его вовсе нет. Это просто неприлично, — грубо заявил он. Как будто я сидела вечерами, отрывала пуговицы и дергала завязки, пока они не износятся до полупрозрачности. Специально для того, чтобы ему стало стыдно на следующий день.
Антуанетта сидит напротив меня. Я хочу закрыть глаза и не видеть платья из грубой бурой шерсти, выцветшей пыльно-голубой накидки, потертой шапочки из простой ткани, темных полумесяцев под глазами. Мне становится стыдно. Мне кажется, что я совсем не знаю Антуанетту.
— Я боялась, что ты не придешь, — говорит она.
Она тянется ко мне через решетку, и я беру ее за руку.
— Антуанетта…
Она устало опускает плечи и качает головой, но ничего не объясняет. Зачем она стала проституткой, зачем украла деньги. И тут она замечает мое платье и сильнее сжимает мне руку.
— Это платье… где ты его взяла?
— Подарок.
Она грустно смотрит на меня, морщит лоб и больше ничего не говорит. Я воображала, что мы будем долго шептаться, сблизив головы, всхлипывать и вытирать друг другу слезы. Я делаю вдох и, чтобы нарушить тишину, начинаю рассказывать. О том, как Колетт — я называю ее «твоей подругой из дома мадам Броссар» — пришла к нам домой. Я жду, что Антуанетта вздрогнет, заговорит, но ей, кажется, нет дела ни до чего. Пусть даже я знаю, что она работала вовсе не в ресторане.
— Она сказала, что ты взяла семьсот франков. Но, Антуанетта, зачем?
Я говорю так же, как Шарлотта, когда она выпрашивает кусок ячменного сахара или второе яйцо из четырех.
— А твое платье? — спрашивает она.
— Мне кажется, это я сейчас должна задавать вопросы, — говорю я тихо, но твердо.
— Ладно. Ты права. Для начала я должна попросить тебя об услуге.
Я киваю.
— Расскажи Эмилю, что я здесь, в Сен-Лазар.
Как и всегда, я вскидываюсь при упоминании этого имени, но ее руки не выпускаю. Если мы поссоримся, если она встанет и уйдет, я не смогу пойти за ней — между нами решетка. Я наклоняюсь ближе.
— Расскажи, почему ты работала в таком месте. У нас же и так было мясо два раза в неделю.
Она сжимает губы в тонкую линию, проводит пальцем по моей ладони.
— Ты не захочешь знать правду.
— Захочу, — я ною, напоминая себе Шарлотту.
Она моргает. Сидит вроде бы совсем рядом со мной, но смотрит куда-то сквозь меня, в стену.
— Мне нужны деньги на дорогу до Новой Каледонии.
— Антуанетта?!
На мгновение она опускает взгляд, но только на мгновение. Потом она снова смотрит на меня.
Глаза застилает туман. По щекам бегут слезы, но с ними уже ничего не поделать.
— Нет! — Я вырываю у нее руку.
Она прячет лицо в ладони. Плечи у нее трясутся. Она плачет, хоть и беззвучно. Я встаю, но железная решетка не дает мне обнять ее — обнять девушку, которая никогда не плачет.
Что тут скажешь? Как объяснить ей про то, как это далеко? Про экватор. Про другое полушарие. Она не поймет.
— Туннель, пробитый сквозь центр земли, выйдет наружу в Новой Каледонии, — говорю я, — но пробить его нельзя, слишком он длинный.
Она чуть качает головой, отнимает руки от лица.
— Шесть недель или чуть больше на корабле, который отходит из Марселя.
В ее взгляде решимость, которая привела в дом мадам Броссар, позволила задирать юбку. Упрямство, которое однажды приведет ее в далекие края.
Я вытираю глаза, облизываю губы, сжимаю пальцы.