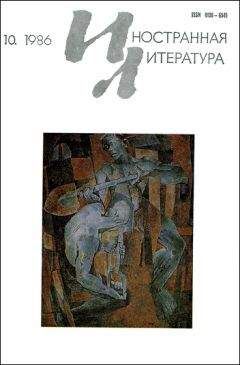Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
Отец появился посреди похорон. Пастор с Майорстюен уже отвитийствовал, мы, горстка всё тех же лиц, спели, стараясь изо всех сил, и тут дверь позади нас хлопнула с грохотом, все обернулись и увидели его, со шляпой в одной руке и белыми цветами в другой. — Королева умерла! — крикнул отец. — Да здравствует королева! — Потом он прошёл по проходу, положил цветы на гроб, поклонился в пояс, сел рядом с мамой, которая залилась краской до самого выреза платья, поцеловал её и ткнул в сторону пастора. — Можете продолжать! — распорядился он. Я обернулся к Фреду. Он изучал свои ботинки. Болетта спрятала лицо за носовым платком. Пастор сошёл вниз, подошёл к отцу и взял его за перчатку. — Нильсен, вы вечно приходите к шапочному разбору, — прошипел он. Отец смотрел на него с ненавистью и улыбался. — Последние будут первыми. — Пастор отпустил отцову руку, засеменил к гробу и бросил на него горсть земли. Меня это рассердило. Пусть хоть Фред его остановит, думал я. Но Фред ничего не предпринимал. Он не шевелился. Руки узлом белели на Библии, лежавшей у него на коленях. Я рванулся вскочить, я собирался лягнуть пастора по ноге и выхватить у него лопату, но отец взял меня за плечи, а потом мы на «бьюике» поехали вниз, на Майорстюен. Мать была в ярости. — Где ты пропадал? — кричала она. Отец поправил подушку, всегда лежавшую на его сиденье, посмотрел поверх руля, и его ослепило низкое солнце. — Что значит «пропадал»? Я работал. — Две недели?! — Я разглядел серый столб дыма, поднимавшийся из высокой трубы крематория, и подумал, что вот каким путём Пра перебирается на небо. Отец усмехнулся: — Вышло чуть дольше, чем я рассчитывал. Когда траур по королевской семье, быстро не поездишь. — Ты мог позвонить — по крайней мере! — Я вернулся так быстро, как сумел, — прошептал отец. — Едва я прочёл сообщение, сразу помчался сюда. — Теперь рассмеялась мама, но нехорошим смехом. — И пожалте: явился не запылился, посреди похорон, записным клоуном! — Отец тяжело вздохнул, и руки в туго натянутых перчатках перехватили руль. — Мне казалось, Пра умеет ждать. А ты сегодня на подпевках у пастора? — Замолчите! — крикнула Болетта и зажала уши. — У меня голова раскалывается. — Мама повернулась к нам, потому что Болетта сидела сзади между мной и Фредом. — Голова заболела! Скажите! Неужто от работы в буфете? — Болетта заплакала, у матери кончился запал, и она зарыдала тоже, а отец прижал машину к тротуару и остановился. — Ну, ну, — сказал он. — Сегодня все должны выплакаться, чтобы освободить место смеху. Но, может, кто-нибудь скажет мне, куда мы направляемся? — Мы направлялись на второй этаж, к Ларсену. Я запомнил, как мы с Фредом сидим на стульях у стены в коричневой комнате, внизу в углу стоит чёрное пианино, на нём горят стеариновые свечи, взрослые пьют из крохотных стаканчиков и закусывают такими же махонькими бутербродами. Присутствуют Арнесен с женой, не упускающий таких случаев домоуправ Банг и киоскёрша Эстер с конфетами для всех. Больше никого, так что пустуют многие стулья. Это были первые мои похороны, и я впервые задумался о том, чувствовала ли Пра себя одиноко при жизни. — Почему все говорят так тихо? — шёпотом спросил я у Фреда. Он не ответил. Но поднялся отец, и говорок смолк. — Я счастлив, что успел на похороны нашей Пра. Она сумела-таки выбрать, когда умереть. В день её ухода вся страна оделась в траур, скорбят королевские дома Европы, палят пушки на Акерсхюс. Она заслужила это. Пра любили. И, не побоюсь сказать это, иногда побаивались. Но любовь, конечно, побеждала. И нам уже не хватает нашей Пра! — Отец отпил из стаканчика и остался стоять. Фред возил ботинками по полу. Отец улыбнулся, налил себе ещё и снова не сел, он держал паузу, тянул и тянул её, пока тишина не сделалась невыносимой, а Болетта готова была сдёрнуть скатерть со стола. Тут отец заговорил снова: — Но я должен сказать… По-моему, это позор, что Пра позволила задавить себя какому-то грузовику! Ей бы пристало кинуться под «шевроле» или уж «мерседес»! Помянем её! — Молчание продлилось ещё секунду, а потом мы все, кроме Фреда, грохнули — этого у отца было не отнять, смешить он умел, горе не впитывалось в него, а стекало, как вода с зеркала, потому-то, наверно, никто и не мог совсем не любить этого Арнольда Нильсена в перчатке с деревянными пальцами. Мать заключила его в объятия и расхохоталась, они расцеловались, и на сердце у меня стало ужасно хорошо и спокойно, и шёпот в комнате отменился. — Отец всегда всё может разрулить, — громко заявил я Фреду. Но он по-прежнему не поднимал глаз от ботинок и долго-предолго возился со шнурками. Мать отпустила отца, и он подошёл к нам с двумя располовиненными бутербродами с яйцом. Я проголодался. Фред есть не стал. Отец смотрел на него сверху вниз. — Как это случилось? — спросил он. Фред молчал, вздрагивал и не включался. — Фто слуфилось? — переспросил я с полным ртом. Отец вздохнул. — Что бабушку задавило, Барнум, — ответил он и откусил от второго бутерброда. — Ты не уследил за ней, да, Фред? — Фред поднял глаза, рывком, и мне показалось, собрался ответить, потому что он открыл рот и струйка слюны вытекла сквозь зубы, но тут в другом конце комнаты фру Арнесен заиграла ту единственную пьесу, которую знала и неутомимо исполняла все годы, прошедшие со дня, когда вследствие путаницы и причудливого стечения обстоятельств она два часа и пятнадцать минут пробыла вдовой. Страховой агент Готфред Арнесен, в тот злополучный день нашедший по возвращении домой жену в трауре по себе, опускает голову от стыда и смущения и порывается немедленно прервать музицирование, но отец удерживает его. — Ну вот, пришёл час расплаты, — говорит отец. Арнесен озабочен: — Что ты имеешь в виду? — Отец улыбается: — Деньги, которые мы складывали под часы. Страховка жизни. — Страховщик стряхивает с себя отцову руку. — Сейчас неподходящий момент для этих разбирательств, — шепчет он. Отец улыбается шире прежнего. — Неподходящий? Лады. Дождёмся, пока она отыграет своё. — На это уходит время, а пианино на втором этаже заведения Ларсена не отличалось красотой звучания. Мы сидели потупив глаза. Но на долгожданном последнем аккорде она с такой силой ударила по клавишам, что обе свечи по бокам над ними потухли, и стало тихо, поскольку никто не знал, что тут сказать или сделать, а сама фру Арнесен так и сидела перед инструментом как приклеенная, в обрамлении двух сизых столбиков дыма, пока отец не поднял руки и не гаркнул: — Браво! Браво! Мне бы десять таких пальчиков! — Теперь мы все могли похлопать, все, кроме Фреда, и Арнесен откланялся и увёл жену. Вскоре меня сморило, и домой отец меня нёс. Мне снилось, как я думаю, что Пра стоит на балконе Королевского дворца и машет рукой, на ней почти нет одежды, и все цвета с неё словно слиняли. Когда я проснулся, колокола больше не звонили, отец пошёл забрать «бьюик», оставленный напротив Ларсена, а Фред спал с открытыми глазами. Я шмыгнул, переступив белую черту, к его кровати и растолкал его. — Что тебе снится? — шепнул я. Но Фред не ответил, тогда нет, а когда он сделал это много позже, я успел забыть, о чём спрашивал. Пришлось идти к маме и Болетте. Я хотел выяснить, изменился ли мир со смертью Пра, и очень на это надеялся, потому что нелегко вынести, если человек умер, а всё продолжается своим чередом, будто и не было его. Я остановился у спальни. Мама с Болеттой наводили порядок в вещах Пра. Мне полегчало. Жизнь явно изменилась и прежней уже не станет, во всяком случае, тут, у нас, в квартире на Киркевейен. — Теперь станет больше места, — заявил я, и мама порывисто обернулась ко мне, строго сжав губы, зато Болетта бросила длинное платье с цветком на животе, которое держала в руках, обняла меня и улыбнулась, обостряя морщинки. — Верно, Барнум. Для того мы, люди, и умираем. Чтобы освободить место. — Разве? — Болетта опустилась на кровать. — Честное слово, — сказала она. — Иначе людей развелось бы слишком много, и как бы мы все тут поместились? — Болетта помрачнела и замолчала. А я был разочарован. Что это за смерть, которая всего лишь чистка и прореживание людей, если их стало многовато? Получается, смерть гоняет нас, точь-в-точь как злющий сторож шугает ребятню со школьного двора? Болетта встала. — Теперь я следующая в очереди, — сказала она. Мама топнула ногой. — Я запрещаю тебе такое говорить! — прошипела она. А Болетта рассмеялась: — Я говорю, что думаю. Моё право! — Она подобрала с полу платье, узкое длинное платье с цветком на животе и, держа его перед собой, протанцевала несколько па, напевая незнакомую мне медленную мелодию, и тут мама обернулась и стала подтягивать этот мотив, который казался таким печальным и не норвежским, и вот уже я сам готов подсвистеть им, а всё вокруг источает сладкий запах «Малаги», и я неожиданно набираю побольше воздуха и давай свистеть, шальной, сбитый с толку и весёлый, на другой день после похорон Пра. Вдруг мама оборвала песню. Болетта умолкла. Только я продолжал свистеть. — Фред? — прошептала мама. Я обернулся. У меня в прямом смысле слова отвалилась челюсть. На пороге стоял Фред. Во вчерашнем наряде: чёрном костюме на вырост и белой рубашке. Я подумал, что теперь он заговорит. Но он повернулся и пошёл. Мама кинулась за ним. А меня Болетта удержала. Потом хлопнула дверь. Вернулась мама и стала дрожащими руками дальше рыться в ящиках, коробках, шкатулках, во всех заветных местечках Пра. — Он говорил? — спросила Болетта. Не встречаясь с ней глазами, мама покачала головой. Болетта вздохнула и открыла следующий шкаф. Стук плечиков друг о друга — этого звука я не смог вынести и заткнул уши, а почему выше моих сил оказался как раз стук вешалок под пальцами перебиравшей тонкие платья Болетты, я не знаю, но с тех и до сих пор я никогда уже не мог его слышать, и в гостиницах мне приходится вешать одежду на стул, кидать на пол или раскладывать на кровати, потому что стоит вешалке звякнуть в тесном шкафу, как я физически чувствую прикосновение холодных пластилиновых губ Пра к моим пальцам и точно касаюсь великого безмолвия. Я бросился к окну. Фред скрылся за домами на той стороне, ни разу не обернувшись. Ночью прошёл дождь. Тротуар блестел. Водостоки забились листвой. Несмелый свет висел в воздухе, как флёр, и подрагивал. Какой в очереди я? Наверно, моё место в этом длинном ряду за Фредом, впереди которого мама, отец и Болетта, и все мы не стоим на месте, а движемся к обрыву, да кого-то выдернут ещё раньше, чем подойдёт его очередь, а сзади суетятся и напирают глупцы, которым надо поскорее прорваться вперёд. Я устал от этих мыслей и спросил маму, не надо ли ей помочь. Она прислонилась к спинке кровати и ответила кивком. Мне достался ночной столик. Меня смутил протез, плававший в стакане с водой: вот и всё, что осталось от Пра, её зубы, изнанка рта, улыбка. Горшок под кроватью, к счастью, был пуст. Но когда я, на всякий случай, взял в руки Библию, которую она тоже держала на столике, из неё что-то выпало — снимок, вырезанный наверняка из газеты или журнала, поскольку бумага была тонкая и мятая. Я медленно прочитал подпись: Страшный лагерь Равенсбрюк переполнен настолько, что узникам не хватает роб. Девочка, худая до прозрачности, одна тень, сидит рядом с, видимо, мёртвой женщиной. — Что там у тебя, Барнум? — Мама подошла ко мне. Я протянул ей фото, а она вдруг осела на кровать, у неё затряслись руки. Болетта тоже взглянула на фото и закрыла лицо ладонями. — Почему она не показала мне этого? — прошептала мама. Болетта подсела к ней. — Есть много способов заботиться о человеке, — сказала она так же тихо. Мама уронила голову и заплакала. — Я понимала, понимала всё время. Но узнала только сейчас. — Болетта обняла её. Фотография выскользнула из маминых рук, и я подобрал её. Я смотрел на мёртвую в в объятиях умирающей, на измождённые, замученные лица и непомерно большие глаза, глядевшие прямо на меня, темноволосая девочка не отвела их, может, не отвела за секунду до смерти, возможно, фотографировал сам палач, он держал в одной руке фотоаппарат, а в другой — меч или пистолет. Я знал, что не смогу спать ещё много ночей после. У меня даже мелькнула страшная мысль, что я вообще никогда больше не засну, потому что эти лица будут смотреть на меня отовсюду из темноты, а даже если я закрою глаза, они никуда не денутся, раз я видел их. — Кто это? — спросил я и едва расслышал собственный голос. Болетта взяла мою руку. — Это лучшая мамина подружка, — сказала она тихо. Очень странно. — А у мамы была подружка? — Конечно же, Барнум. Её звали Рахиль. Она была красавица и жила в соседнем подъезде. — Я ещё раз посмотрел на фото. Я не хотел смотреть, но не мог устоять. Меня как будто притягивала эта фотография мёртвой на руках умирающей, простой девчонки из соседнего подъезда, закадычной маминой подружки, впившейся глазами в палача. — За что с ней так? — прошептал я. Болетта задумалась надолго. Мама снова занялась бабушкиными вещами, она перебирала тапки, флаконы, украшения, очки и копошилась с такой медлительностью, точно лунатик, пытающийся навести порядок во сне, разобраться в котором ему не суждено никогда. — Люди и злы тоже, — сказала Болетта. Я не понял, но не переспросил. Я слышу, как эти шаги уходят из моей жизни. Мамин припев. Но сейчас она вдруг повернулась к нам, игриво, на грани улыбки, показать, что Пра хранила в шкатулке с драгоценностями. Привычный ритм маминых раздумий — шараханье туда-сюда. Это была пуговица, блестящая пуговица на ножке из чёрной нитки. — А это откуда? — прошептала мама, отдавая находку Болетте. Та тоже не знала, и они обе сели и молча уставились на пуговицу размером больше крышки от лимонада. — Можно мне её взять? — спросил я. Мама подняла голову. Щёки ввалились, она побледнела и стала, на миг показалось мне, похожа на свою подружку, на Рахиль. Я отвернулся. — Возьми, конечно, малыш. Тем более ты так замечательно помогал, — позволила Болетта. И она отдала мне пуговицу. Та оказалась тяжёлой и холодной на ощупь. — Спасибо, — шепнул я. Пошёл в нашу комнату. Убрал пуговицу в пенал. Попробовал заняться уроками. Надо бы закончить рисунок короля. Но нет сил собраться с мыслями. Всё, что мне удалось: стереть подпись Король Барнум под худой скособоченной фигурой. Вот оно, наше наследство, ну, вещи, которые Пра оставила нам: фотография мёртвой маминой подруги и блестящая пуговица с чёрной ниткой в ушке. Я заплакал. Не смог сдержаться. И плакал, пока не пришёл отец и нас не позвали обедать. Место Фреда пустовало. Мама была молчалива и едва ковыряла еду. Рыбные фрикадельки в белом соусе. Отец мял картошку вилкой и был не разговорчивее матери. Болетта пила пиво, и обед тянулся невесело. Под конец отец сообщил: — Я поговорил с Арнесеном. — Все молчали. Отец завёлся и капнул на скатерть. — Вам что, неинтересно, о чём я с ним говорил? — Болетта перегнулась через стол. — Арнольд, о чём ты говорил с Арнесеном? — спросила она. Отец вытер губы салфеткой. — О страховке, — ответил он. — Нам причитается всего две тысячи, и привет. — Болетта отпихнула фрикадельки. — Не рановато ли ты взялся подсчитывать, на что потянула Пра, а, Арнольд Нильсен? — Отец вскочил, едва не опрокинув стул. — И ты туда же, Болетта? Просто, на мой взгляд, Пра стоила больше, чем пара тыщ. — Сядь, — внезапно сказала мама. Отец сел. Стало тихо. И было слышно, как чмокают фрикадельки, скользя по гладким тарелкам. — Мы делали недостаточные взносы, — прошептал отец. — Мы всегда платили столько, сколько от нас требовали, — заметила мама. Отец покачал головой и повернулся ко мне. — Кто-то мог поживиться денежками из ящика под часами, — сказал он. Я потупил голову. И тоже капнул на скатерть. — Я — нет, — шепнул я. — Ты-то нет, но вдруг ты видел Фреда за этим? — Болетта стукнула кулаком по столу. С такой силой, что опрокинула стаканы. Мама вскрикнула, отец сделался белее салфетки. А я с облегчением подумал, что, может, не придётся отвечать. — Не смей вечно обвинять Фреда во всех грехах, — отчеканила Болетта. Отец заёрзал на стуле. — Я никого не обвиняю. Просто пытаюсь разобраться, что случилось. — Болетта улыбнулась: — А если Арнесен нас надувает? — Отец обдумывал это несколько минут. Потом накрыл своей рукой изящные пальчики Болетты. — Эти деньги не были бы лишними, — сказал он. — Теперь, когда ты ушла с Телеграфа. — Я получаю пенсию, — ответила Болетта. — Могу и тебе ссудить, если нуждаешься. — Отец медленно встал и вышел из-за стола, ни слова не сказав. Мама застонала. — Последнюю фразу ты могла и не говорить, — прошептала она. Болетта подпёрла голову руками. — Арнольд Нильсен — торгаш до мозга костей. Я ненавижу всю эту суету вокруг денег. — В ответ мама тоже ушла из-за стола. А я остался. Рыбные фрикадельки остыли. Белый соус облепил вилку. — Не слушай нас, взрослых, — обратилась Болетта ко мне. — Не буду. — Она тоненько засмеялась: — Но ты слушай меня, когда я говорю, чтоб ты не слушал всё, что мы, взрослые, несём. — Болетта выпила уже два стакана пива. Из-за него она так и выражалась, наверно. — Ладно. — Болетта придвинула свой стул поближе к моему. — А тебе Фред что-нибудь говорил? — Нет. А о чём? — Мне так хочется узнать, о чём они разговаривали с Пра перед её смертью, понимаешь, Барнум? — Мне он ничего не рассказывал, — прошептал я. Потом я помогал убирать со стола. Затем Болетта взялась мыть посуду, а я вытирал, а ещё потом я ждал Фреда. Он явился, когда я задремал. Вдруг присел на край моей кровати. В темноте я едва видел его. Отчётливее всего блестели глаза. Зажечь свет я побоялся. — О чём вы с Пра говорили? — спросил я. Глаза исчезли. Он не ответил. Я нащупал в ранце пенал и вложил Фреду в руку тяжёлую пуговицу. Глаза блеснули снова. — Это пуговица от Пра, — шепнул я. Фред включил свет. Он рассмотрел пуговицу и сжал кулак. — Бери, пожалуйста, — предложил я. Но он не ответил, как я надеялся, а просто уронил пуговицу на пол. Пришлось мне лезть под кровать её искать, а свет Фред выключил. Его долгое молчание уже началось. Поначалу-то оно никому, кроме меня, глаз не мозолило, потому что говоруном Фред не числился никогда, скорее наоборот, молчуном, из которого слова не вытянешь. Слова вообще ему не давались. Топорщились в нём сикось-накось, а буквы часто путались местами. Его школьные сочинения были самыми короткими в мире, но писал он их через два раза на третий, всё равно по норвежскому у него была твёрдая двойка, а однажды ему вообще поставили прочерк. На переменах он подпирал стену. К нему никто не подходил, но даже я замечал, как исподтишка поглядывают на него девчонки или ходят взад-вперёд мимо него парочками с игривыми улыбочками. Я мечтал гордиться Фредом. Однажды кто-то написал «выблядок» на стене под навесом. Сторож убил два часа на то, чтобы смыть надпись, поднялся шум, но никого не нашли. В понедельник Аслак явился в школу в тёмных очках, хотя лил дождь. Один глаз у него был иссиня-черным и расплывался из-подо лба набрякшим мешком. Аслак объяснил, что он налетел на дверь и ударился о ручку. Кроме учителей, поверили ему немногие. Фред всё так же молча стоял у стены. Я подошёл к нему. Он не обернулся. Аслак, Хомяк и Пребен следили за нами, сидя на поручнях на трамвайной остановке. — Давай пойдём домой вместе? — предложил я. Мы пошли вместе. Фред шёл по одной стороне улицы, а я по другой. Эстер высунулась из киоска и запихнула мне в карман тугой, шуршащий бумажный кулёк с ирисками. — Поделись с братцем, — сказала она и запустила руку мне в кудри. Тем временем Фред, он сроду не ждал, исчез, скрылся за углом или свернул за церковь, поди угадай, он часто растворялся вот так, и я охнуть не успевал, как оказывался один. Всего вроде бы и оставалась от Фреда жидкая тень на тротуаре, которую домоуправ Банг должен был сковырнуть своей могучей метлой да и вышвырнуть в помойку. Домой Фред возвращался не раньше, чем я засыпал. Но несколько раз Болетта заявлялась ещё позже его. Она долго топала, отыскивая ванну и постель, а на другой день маялась головой и лежала с тряпкой на лбу, а мама злилась и пилила её. — Опять ходила на свой Северный полюс? — шипела она и стискивала губы в линеечку. Она говорила именно так, «ходила на свой Северный полюс», и я каждый раз пугался, представляя себе, как Болетта пробивается сквозь лёд, холод и пургу, рискуя навечно остаться там, куда её понесло незнамо зачем, если только не на поиски? — Зачем Болетта ходит на Северный полюс? — тем же вечером спросил я у Фреда. Но он не ответил. Снег выпал в середине ноября, в пятницу. Я лежал и вслушивался в тишину, она нарастала. И вдруг резко оборвалась: фру Арнесен заиграла на пианино, заиграла новую пьесу, мало того, несколько разных, получился настоящий концерт, по завершении которого в доме распахнулись все окна и фру Арнесен устроили овацию, даже сам домоуправ Банг разогнул спину, облокотился о скребок и хлопнул пару раз, а она стояла у окна третьего этажа и кланялась. А в воскресенье мы увидели, что Готфред Арнесен шествует вниз по Киркевейен в церковь под ручку с женой в такой богатой и шикарной шубе, что все провожали её восхищёнными, недоуменными и завистливыми взглядами, особенно дамы с Фагерборга, они качали головами, и долго ещё потом все только и шушукались, что об этой шубе, а мужья чуть не поголовно вынуждены были заняться расчётами, сколько будет стоить такая шуба в рассрочку на два года. — Что тебе подарить на Рождество? — спросил отец. — Шубу, — ответила мама. Отец вскочил и пошёл к дверям, при этом стараясь сжать в кулак покалеченную руку. — Видно, нашему дражайшему Арнесену грехи совсем покоя не дают, что он попёрся в церковь в такую холодрыгу, в минус восемь! — Мать и слушать не желала: — Вот поэтому фру Арнесен и надела шубу. Чтоб не мёрзнуть! — Но в церкви тепло! — крикнул отец. Мама вздохнула: — Ты завидуешь, вот и всё. — Отец засмеялся, слишком громко. — Увольте, я б не стал рядиться в шкуру с пуговицами. — Теперь смехом ответила мама: — Ты завидуешь тому, что Арнесен может делать своей жене такие подарки! — Отец стукнул по двери увечной рукой: — Я боюсь, что с нашими страховками дела обстоят не так блестяще, как с шубой! — И пропал на два дня. Мама повернулась к Фреду. Он сидел перед камином, положив руки на колени. — А ты чего хочешь? — спросила она. Фред не ответил. Мама повторила вопрос. Фред повторил молчание. — Раз ты ничего не хочешь, ничего и не получишь, — сказала мама. — Оставь ребёнка в покое, — прошептала Болетта и отправилась на Северный полюс. Мама зарылась лицом в ладони и расплакалась. У меня свело живот. И перехватило горло. Я положил руку ей на спину. Она была горячая, как камин. — Может, почитаем письмо? — спросил я робко. Мама кивнула: — Да, Барнум, давай. — Я достал из шкатулки письмо, сел на диван под лампу и стал читать, медленно и старательно одолевая трудные слова, хоть я знал их почти наизусть. Фред не отрывал от меня глаз, что-то творилось в них, что-то тёмное росло и ширилось, и то, как он на меня смотрел, и улыбка — он точно менялся от предложения к предложению, и я едва не утратил нить прадедушкиного письма.