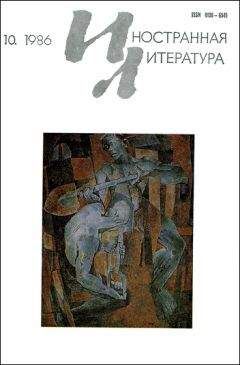Полубрат - Кристенсен Ларс Соби
Мы пошли на Телеграф рассказать Болетте, что стряслось. Мама молчала всю дорогу. Ей нужно было время. А сам я не решался спросить ни о чём больше. Тем более лучше и не знать. Пра умерла. Чего же больше? Это я виноват. Если б не эти мои ужасные мысли о смерти отца, с Пра бы ничего не случилось. Плакать и то я не мог. Слёзы будто застыли во мне и не изливались наружу. В огромный зал на Толлбюгатен я вступил, держа маму за руку. Разговоры велись вполголоса. — Тише, — шикнула мама. Хотя я рта не открывал. По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж Здесь в комнате рядами сидели женщины с наушниками и вставляли пипки в доски, утыканные проводами. Болетту мы не высмотрели. Некоторые оглядывались на нас и тут же отворачивались. У меня заболела голова. Слёзы тёрлись в голове, как льдины о ледоход. Мать переговорила с женщиной, которая сидела за отдельной партой и листала толстую книгу, и вернулась от неё в большом удивлении. — Болетта внизу, ест, наверно, — прошептала она. Нам пришлось спуститься вниз по той же лестнице. В столовой в подвале мы отыскали Болетту. Она стояла за прилавком и отпускала кофе. На ней был белый передник. Когда Болетта увидела нас, она сперва сконфузилась и отвернулась, как если б её застукали с поличным за тем, что она выуживает деньги из ящика под часами, но тут же лицо у неё стало сердитым, и я подумал, что она уже всё знает и, может быть, сердится на Пра, что та умерла. — Что ты здесь делаешь? — тихо спросила мама. Болетта стала резкой и порывистой в движениях. — Что делаю, то делаю. — Матери уже пора было говорить то, с чем мы пришли, но её будто заело. — Почему ты не в переговорной, не наверху? — Потому что я здесь, внизу, — огрызнулась Болетта и пролила кофе. Мать стояла как громом поражённая и не могла собраться с мыслями. — Но ты работаешь телефонисткой? Не подавальщицей? — Болетта взяла маму за руку: — Я не могу больше работать телефонисткой. Я плохо слышу на правое ухо. Твоя душенька довольна? — Нет, мама не была довольна. Напротив, она казалась огорошенной и говорила будто в прострации: — И тебя сослали сюда? — Болетта вздохнула: — Да, теперь я тут. Ниже всех на Телеграфе. — Мама покачала головой. — И давно? — Двенадцать лет. — Двенадцать лет! — вскрикнула мама. А Болетта потупилась. — Да, как война кончилась, так меня и перевели. — У меня в голове не помещалось, что они могут так препираться в такой день и говорить о чём-то кроме того, что случилось сегодня. — И ты не сказала нам ни слова, — прошептала мама. Болетта наставила пирамиду из чашек. — Свои поражения я переживаю сама, — ответила она. Я взял мать за руку. — Ты не хочешь рассказать? — спросил я. Болетта повернулась: — Что рассказать? — Что Пра умерла, — ответил я. Болетта положила руку мне на голову. — Ты перепутал, Барнум, это король умер. — Мама набрала воздуха. — Болетта, Пра умерла тоже. — Болетта не заплакала. Лишь уронила чашки на пол. Они разбивались одна за одной. Потом она сорвала с себя передник и швырнула его на стойку. А ещё потом такси довезло нас до больницы «Уллевол». Пройдя множеством смердящих коридоров, мы отыскали Фреда. Он сидел на кровати в комнате без окон. Он смотрел на нас, но глаза у него были оловянные, как две ложки. Мама бросилась к нему. Фред отвернулся. Меня Болетта к ним не пустила. Мы стояли в дверях и наблюдали, как мать пытается обнять Фреда, а он не даётся и отталкивает её. Почти сразу появился доктор и прошептал что-то маме на ухо, точно как директор Шкелете. Взрослые уединились с доктором, а меня оставили с Фредом. Помню, Болетта бросила что-то насчёт того, что Пра тоже отослали в подвал, но мама строго одёрнула её. Я сидел рядом с Фредом на его кровати. Мы просидели так долго. Кровать оказалась высокой, жёсткой, наверняка неудобной. На куртке Фреда, в самом низу, на рукаве, бурело кровяное пятно. Неужели он ранен? — У тебя кровь? — спросил я. Он не ответил. К больнице подъехала «скорая помощь». Пробежал санитар. На серой стене висела картина: люди тянут сеть из моря. — Почему Пра умерла? — шёпотом спросил я. Фред и на это не ответил. Он вступил в своё долгое молчание. Глаза у него были как горбики ложек, и он смотрел прямо перед собой, то ли на дверь, то ли на ничто. Я попробовал взять его руку. Фред сжал её в кулак и сунул в карман. Мне не улыбалось сидеть так долго. Я спрыгнул на пол. Фред не удерживал меня. Выбравшись в коридор, я отправился на поиски мамы с Болеттой. Коридоры напоминали школьные, только не хватало крючков для одежды. Сначала я побежал вниз. Там в комнате звучали голоса. Я заглянул внутрь и увидел мужчину, он рыдал, заслонясь букетом. Я скользнул дальше, нашёл ещё одну лестницу и спустился ниже. Здесь было холодно. Я озяб и жалел, что Фред не остановил меня. Видно, я попал в подвал, потому что дальше лестницы не было. Я побрёл по коридору. На потолке светилась длинная трубка. Старик в белом халате вёз кровать в другую сторону. Он помешкал секунду, но дал мне дорогу. Кровать была накрыта белой простынёй, под ней кто-то лежал. Одна нога торчала. Я добрался до угла. На стене было написано несколько букв, я их не знал. Наверно, они иностранные. Немного по-иностранному я уже знал, но только на слух. Это меня отец научил: Mundus vult decipi. Я понял, что заплутал и теперь никогда, верно, не выберусь назад, на надземные этажи. Мне захотелось плакать по-настоящему, льдинки растаяли в голове и потекли к глазам. Вдруг повеяло нездешний сладостью. Я учуял терпкий аромат маминого парфюма и бросился на запах, на душистый запах мамы, он сгущался, точно она сама вела меня эти последние метры и вывела к широким распахнутым дверям. Я заглянул внутрь. Болетта и мама стояли по бокам стола с бортиками и на колёсах, а доктор нагнулся к шкафу прямо под лампой, залившей мои ботинки густой чёрной тенью. Мама подняла глаза и увидела меня. Я подошёл к ним. Пра лежала раздетая догола. У меня хватило духу посмотреть только на лицо. Поперёк лба прорвана глубокая рана. Я поднял руку и положил палец на её губы, они оказались холодные, пластилиновые и ввалились ей в рот.
Несчастье случилось на улице Вергеланна, на углу Дворцового парка. Пра спешила к дворцу посмотреть, как гвардейцы до середины флагштока поднимут на балконе увитое траурной лентой знамя Королевского дома. Она хотела проститься со своим датским принцем, с которым они столько лет шли след в след. Водитель грузовика, который вёз скамейки на склад в порту, оправдывался тем, что пожилая женщина внезапно бросилась ему наперерез и затормозить он уже не мог. Свидетели происшествия, продавщица из газетного киоска и несколько покупателей, заглянувших к ней посмотреть последние новости, подтвердили его слова и добавили, что он просто чудом объехал мальчика, который тоже сиганул прямо под колёса. Пра ударилась о капот, и её отбросило на несколько метров. Правда, никто не мог достоверно объяснить, что же стряслось в ту секунду, когда Пра отпустила руку Фреда и шагнула на мостовую, споткнулась ли она, помутилось ли у неё сознание, или просто она тем мрачным утром с головой ушла в свои тяжёлые думы. Потом я часто раздумывал над тем, что приключилось за секунды до наезда, до того, как Пра на углу Дворцового парка потеряла равновесие и угодила под грузовик. Дело против шофёра не завели, ибо, по мнению полиции, пешеход допустил «преступную неосмотрительность». Когда приехала карета «Скорой помощи», Пра уже скончалась, а Фред молча сидел на бордюре с гребнем в руках, и ещё двадцать два месяца потом никто не слышал от него ни слова.
Каждый божий день до похорон Пра от полудня до часу звонили колокола всех церквей, по радио передавали лишь серьёзную музыку, флаги висели приспущенные, и даже наша сборная играла с траурными повязками на руках и сумела, получив благословение епископа, устоять против Швеции 2:2. На слёзы у мамы с Болеттой времени сейчас не хватало. Столько свалилось забот с венками, объявлениями, псалмами, бутербродами, пирожными и бумагами. Оказалось, смерть чрезвычайно утомительна, во всяком случае, для оставшихся в живых. Да плюс они пытались разыскать отца, уехавшего по делам, но его нигде не было, и знать о себе он не давал. Они нe успели даже заметить, что Фред ничего не говорит. Но я обратил на это внимание. Обратил потому, что каждый вечер, когда мы отправлялись в постель, он лежал молча и всю ночь не смыкал своих замороженных глаз.