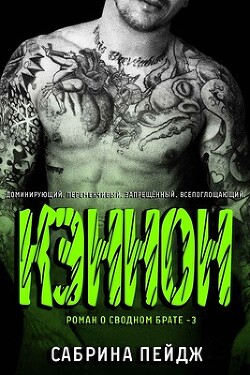Среди овец и козлищ - Кэннон Джоанна
Мы стояли у края этой таинственной территории, сплошь размеченной колышками и натянутыми между ними тонкими веревочками.
Эрик Лэмб скрестил руки на груди и указал кивком вдаль.
– Что самое главное для сада, как думаете? – спросил он.
Мы тоже скрестили руки, словно это помогало думать.
– Вода? – спросила я.
– Солнце? – сказала Тилли.
Эрик Лэмб улыбнулся и покачал головой.
– Веревочки? – уже отчаиваясь, предположила я.
Закончив смеяться, он распрямил руки и сказал:
– Самое главное – это тень садовника.
И я решила, что Эрик Лэмб очень умен, хоть до конца так и не понимала, почему именно. В нем чувствовались свобода и некая неторопливая мудрость, которые, как благодатная тень, ложились на эту почву. Я смотрела на сад и видела белых бабочек, танцующих над георгинами, фрезиями и геранью. Все цвета радуги сошлись в едином хоре, пели и требовали моего внимания, – казалось, я услышала это впервые в жизни. Потом вспомнила о грядке с морковкой, которую посадила в прошлом году (морковь так и не выросла, потому что я то и дело выкапывала ее, посмотреть, жива она или нет), и мне стало немного стыдно.
– А откуда вы знаете, где и что надо сажать? – спросила я.
Эрик Лэмб, подбоченясь, смотрел вместе с нами на сад, затем кивком снова указал куда-то вдаль. Я видела, что земля въелась в его пальцы, уютно устроилась в складках и морщинках кожи.
– Надо сажать растение среди ему подобных, – ответил он. – Нет смысла сажать анемон среди подсолнечников, правильно?
– Правильно, – почти одновременно ответили мы с Тилли.
– А что такое анемон? – шепотом спросила она.
– Понятия не имею, – ответила я.
Думаю, что Эрик Лэмб это заметил.
– А все потому, что анемон просто погибнет, – сказал он. – Ему нужны совсем другие условия. Есть вполне логичное место для каждого растения. И если сделать все с умом, тот же анемон будет цвести пышным цветом.
– И все равно, – не унималась Тилли, – откуда вы знаете, где для растения самое правильное место?
– Опыт. – Он указал на наши тени, вытянувшиеся на земле. На свою, широкую и мудрую, как дуб, и наши с Тилли – узенькие, изломанные и неуверенные.
– Оставляйте тени на земле, – проговорил он. – Если оставить много теней, непременно придет время, когда вы узнаете ответы на все вопросы.
И он раздал нам полотенца и алюминиевые ведра и послал нас на другой конец сада делать прополку. Он вручил нам также перчатки (мне досталась правая, а Тилли – левая), но они были слишком большие и неудобные, и через несколько секунд мы их сняли. Земля была мягкой и послушно проскальзывала между пальцами.
Через несколько минут над изгородью, отделявшей сад Эрика Лэмба от Шейлы Дейкин, возникла голова Кейти.
– Чего это вы здесь делаете? – спросил он.
– Пропалываем. – Я развернула кусок газеты, которую дал нам Эрик Лэмб, и подстелила себе под колени.
– И еще оставляем тени, – сказала Тилли.
Кейти сморщил нос.
– Это еще зачем? – спросил он.
– Потому, что это интересно. – Я заметила, что Кейти поглядывает на ведро, оно начало наполняться стеблями, землей и листьями. – И учит человека жизни.
– Какой смысл? – спросил он.
– А какой смысл весь день бить по футбольному мячу? – парировала я.
– Меня могут заметить. Может заметить сам Брайан Клаф [39] и пригласить в команду.
И Кейти для пущей убедительности стукнул по мячу.
– Что ж, если увижу, что Брайан Клаф идет по Кленовой улице, так и быть, подскажу ему, где тебя найти.
Я понятия не имела, кто такой этот Брайан Клаф, но была уверена, что Кейти так ничего и не понял. Голова его снова исчезла за изгородью. Я покосилась в ту сторону, где находился Эрик Лэмб. Он стоял спиной к нам, но я успела заметить, как плечи его сотрясаются от смеха.
Мы продолжали полоть. Тилли в своей непромокаемой шапочке, мне же Эрик Лэмб нашел в дальнем углу сарая мужскую фетровую шляпу. Странно, но процесс прополки почему-то успокаивал. Я перестала волноваться насчет Бога и миссис Кризи, перестала думать о том, что мама тотчас выходит из той комнаты, куда зашел папа. Я могла думать только о почве, щекотно проскальзывающей у меня между пальцами.
– А мне это нравится, – призналась я.
Тилли кивнула, и мы продолжали работать молча. Через некоторое время она указала на растение, крепко укоренившееся в земле.
– А это что, тоже сорняк? – спросила она.
Я придвинулась поближе, посмотрела. Листья широкие и зубчатые, не похожи на все остальные, что валялись в ведре. Бутона в сердцевине не было, но все равно это растение как-то не походило на сорняк.
– Не знаю, – пробормотала я неуверенно. – Может, и сорняк.
– А если я выдерну его, а это окажется не сорняк? Что, если тем самым я убью его, а на самом деле это цветок? – спросила она. – Если я ошибусь?
Эрик Лэмб подошел к нам с другого конца сада.
– Ну, в чем проблема? – Он присел на корточки рядом с нами и тоже стал разглядывать растение.
– Никак не можем решить, сорняк это или нет, – объяснила Тилли. – Не хочется выдергивать, если это не сорняк.
– Понимаю, – протянул он, но больше ничего не сказал.
Мы ждали. У меня уже ноги затекли, и я сползла с газеты. Потом глянула вниз и увидела, что на коленках отпечатались фрагменты с заголовком статьи за прошлую неделю.
– Так что будем делать? – спросила Тилли.
– Ну, прежде всего скажите мне, – начал Эрик Лэмб, – кто решает, сорняк это или нет?
– Люди? – предположила я.
Он усмехнулся.
– Что за люди?
– Ну, люди, которые этим занимаются. Только они могут решить, сорняк это или нет.
– А кто в данный момент этим занимается? – Он взглянул на Тилли, та, щурясь от солнца, смотрела на него. – У кого в руках садовая тяпка?
Тилли почесала испачканный в земле нос и еще сильнее сощурилась.
– Я?.. – тихо спросила она.
– Ты, – кивнул Эрик Лэмб. – Именно тебе решать, сорняк это или нет.
И все мы обернулись и посмотрели на растение, которое ждало своего приговора.
– Взгляд на сорняки, – сказал Эрик Лэмб, – весьма субъективен.
Мы пребывали в замешательстве.
Он сделал еще попытку:
– Очень многое зависит от личной точки зрения. То, что одному человеку кажется сорняком, другому может показаться прекрасным цветком. Многое зависит от того, где и как эти люди росли и какими глазами они смотрят на мир.
Мы оглядели сад с георгинами, фрезиями и геранью.
– Так весь этот сад может показаться кому-то полным сорняков? – спросила я.
– Вот именно. Если любишь колокольчики, все здесь может показаться напрасной тратой времени.
– И тогда ты бросаешься спасать колокольчики, – подхватила Тилли.
Он кивнул.
– Так все-таки сорняк это или нет? – спросил он и посмотрел на Тилли.
Ее тяпка зависла над растением. Она вопросительно взглянула на нас, мы по-прежнему не сводили с нее глаз. В какой-то момент мне показалось, что сейчас она его выкопает, но вот Тилли отложила тяпку и вытерла руки о юбку.
– Нет, – решила она, – это не сорняк.
– Тогда пусть себе живет, – сказал Эрик Лэмб. – А мы с вами пойдем в дом и выпьем по стаканчику лимонада.
Мы оторвались от газет, отряхнули одежду и пошли за ним через сад.
– Все же интересно, права ты была или нет, – заметила я, вытирая ноги о коврик у входа. – Может, все же то был сорняк.
– Дело совсем не в этом, Грейси. Думаю, главное в том, что каждый имеет право думать иначе, чем другие.
Все же смешная она иногда бывает, эта Тилли.
– Ты так ничего и не поняла? – спросила я.
Она насупилась и уставилась на коврик.
Эрик Лэмб полез за стаканами, стоявшими на буфете, тем временем мы с Тилли с любопытством осматривали кухню.
Просто удивительно, до чего разные у людей кухни. Одни такие кричащие и суматошные, как у миссис Дейкин, другие, как у Эрика Лэмба, тихие и спокойные. Над дверной рамой чуть слышно тикали ходики, холодильник мирно урчал в углу. А в остальном – никаких звуков, даже когда мы открывали краны, посматривали в окно и мыли руки жидким мылом. Рядом с плитой стояли два кресла-качалки, одно расшатанное, с почти провалившимся сиденьем, другое целое, как новенькое. Через спинки обоих были перекинуты связанные крючком покрывала – переплетение многоцветных ниток радовало глаз своей яркостью, – а на туалетном столике стояла фотография женщины с добрыми глазами. Она смотрела, как мы моем руки, как берем стаканы с лимонадом у Эрика Лэмба, и я подумала: каким терпением надо было обладать, чтоб сплетать воедино эти шерстяные пряди, создавая плед для кресла, в котором она больше не сидит.