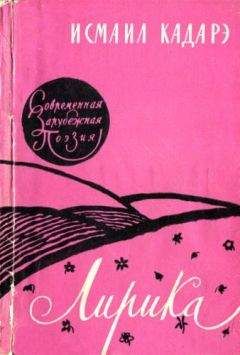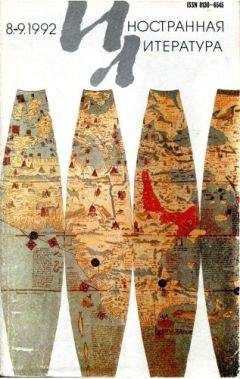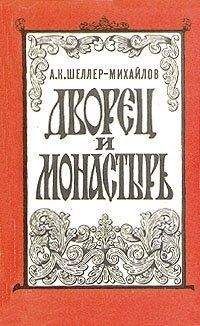Дворец сновидений - Кадарэ Исмаиль
С головой погруженный во все это, Марк Алем даже не заметил приближения весны. Воздух не много прогрелся, возвращались аисты, но он ничего этого не замечал.
Однажды вечером, практически на том же самом месте и в то же самое время, как и в прошлый раз, он увидел гроб, который тайком выносили из камер изолятора. Продавец овощей, подумал он, не повернув головы, чтобы задать вопрос, и даже смотреть не стал. Под покачивание кареты увиденное вновь возникло у него в памяти, но он тут же отогнал от себя эти мысли. Сквозь стекла кареты, в пурпурном отсвете заката, уже можно было разглядеть первые ростки травы в голых еще парках.
Дома обсуждали его помолвку. Приехал старший дядя, губернатор, не бывавщий в столице с момента ареста Курта, вместе с женой и несколькими близкими родственниками. Глаза матери были на мокром месте, словно весне удалось добраться и до нее. Марк-Алем молча выслушал их, но мысли его были далеко. Внезапная мысль поразила его, словно он совершил открытие: ему исполнилось двадцать восемь лет. С тех пор, как он пришел во Дворец Сновидений, туда, где время текло по другим законам, он практически забыл о своем возрасте.
Обеспокоившись его молчанием, все принялись с еще большим энтузиазмом расхваливать девушку. Девятнадцатилетняя блондинка, в его вкусе… Они вели разговор предельно осторожно, словно держа в руках хрустальную чашу. Марк-Алем не говорил ни да, ни нет. В последующие дни, будто опасаясь потерять то, чего уже удалось добиться, они старались пореже упоминать об этом.
Если не считать двух ужинов, организованных в честь приезда дяди, неделя в их доме прошла спокойно. Пришел камнетес, отделывавший их семейные надгробия, чтобы показать, какими буквами и бронзовыми украшениями будет украшена могила Курта.
Однажды вечером он взял из библиотеки семейную хронику — «Chronigue». Последний раз он перелистывал ее тем холодным утром, когда впервые отправился в качестве простого сотрудника Дворца, которым теперь руководил. Пальцы его скользили по страницам, хотя он и сам не понимал, что хочет там найти. Потом осознал, что ничего не ищет, а просто собирается долистать до конца, где начинаются белые страницы… Впервые в голову ему пришла мысль добавить что-нибудь в многовековую хронику. Он долго неподвижно сидел над ней. Произошло много важных событий, закончилась война с Россией. Греция откололась от империи, а остальная часть Балкан непрерывно бурлила. А вот Албания… Словно далекая холодная звездочка, она вновь потускнела, ускользая от него, и он задавался вопросом, а знает ли он вообще, что в ней происходит. А если понимает это, то вправе ли об этом говорить… Так он сидел, погруженный в сомнения, в то время как перо его становилось в руке все тяжелее и тяжелее, пока наконец не коснулось бумаги, и на ней вместо слова «Албания» он написал «там». Он взглянул на это слово, заменившее название его родины, и внезапно ощутил всю тяжесть того, что тут же окрестил «тоской Кюприлиу», выражением, которого нет ни в одном языке мира.
Там сейчас, наверное, лежит снег… Он больше ничего не добавил и лишь с усилием поднял перо, как будто опасался, что оно прилипнет, словно пойманное в капкан. Ему пришлось дождаться, пока пройдет мимолетное помутнение, чтобы написать затем совсем коротко, фразами, выдержанными в стиле хроники, об осуждении Курта Кюприлиу и своем назначении главой Дворца Сновидений. Затем перо его вновь замерло в руке, а мысли вернулись к тому далекому пращуру по имени Гьон, который много веков назад зимним днем принимал участие в строительстве некоего моста и вместе с мостом строил свою фамилию. В этой фамилии, словно тайное послание, была предсказана судьба рода Кюприлиу, из поколения в поколение. Чтобы мост стоял, в основание его потребовалось замуровать жертву. Сколько уже времени прошло, а брызги пролитой тогда крови из немыслимой дали долетели до них. Чтобы мост стоял… Чтобы стояли Кюприлиу, те, кого должны были бы звать Ура…
Может быть, именно по этой причине, подобно древним грекам, которые, провожая похоронную процессию, обрезали свои волосы для того, чтобы дух покойного, если его чем-то разгневали, не смог бы их узнать и причинить вред, так и Кюприлиу сменили фамилию, чтобы мост их не узнал.
Он это понимал и все же, как и во время того фатального ужина, вновь почувствовал жгучее желание сорвать защитную маску, эту восточную кожуру, чтобы взять себе древнее, христианское имя, из тех, какие навлекали опасность и преследовались беспощадной судьбой: Пьетер, Зеф, Гьорг.
И, как и тогда, он повторил про себя: Марк Ура, Гьорг Ура, а перо при этом продолжал держать в руке, словно сомневаясь, стоит ли поставить свою подпись или нет в древней «Хронике».
Всю следующую неделю Марк-Алем возвращался домой поздно. Султан потребовал предоставить подробный доклад о сне и сновидениях в масштабах всей империи. Все отделы Табира работали сверхурочно. Генеральный директор снова оказался болен, и Марк-Алему нужно было самостоятельно составить окончательный текст доклада.
Время от времени голова его наливалась тяжестью над рабочим столом. Иногда он с удивлением смотрел на им самим же исписанные листы, словно не узнавая. Перед ним был кошмарный сон одной из величайших империй мира. Сорок с лишним народов, все религии, почти все человеческие расы. Если бы понадобился доклад во всемирном масштабе, и то едва ли что-то важное добавил бы сон остальной части человечества. По сути, это был сон почти всей планеты, тот ужасный мрак без конца и без края, из бездны которого Марк-Алему удавалось извлекать крупицы истины. Бог сна древних греков, Гипнос, знал не больше, чем он, о снах и сновидениях.
Был вечер в конце марта, когда он закончил наконец доклад. Он отдал его в переписку и, ощутив некоторое облегчение, забрался в карету, чтобы отправиться домой. В карете он сидел обычно в глубине, в тени, где глаза любопытствующих, которых всегда было полным-полно на улицах, не могли его разглядеть. Так он сел и в этот раз, но, проехав немного, почувствовал, что желание выглянуть в окно было сильнее, чем когда-либо. Что то такое там, снаружи, неудержимо манило его. В конце концов, вопреки обыкновению, он наклонился к окну и сквозь легкий туман, оставленный на стекле его дыханием, увидел, что они проезжают вдоль Центрального парка. Распустились цветы миндаля, с грустью подумал он. Ему захотелось откинуться назад, в глубину кареты, как делал всегда, когда его что-то привлекало снаружи, но не смог пошевелиться. Прекрасная погода, тепло солнечных лучей, аисты и любовь, он знал, что все это рядом, в двух шагах от него, но делал вид, что не замечает их, из опасения, как бы они не вырвали его из магической власти Дворца Сновидений. Ему казалось, что он спрятался там именно затем, чтобы защититься, и в тот момент, когда жизни удастся выманить его из этого убежища, то есть в момент предательства, морок развеется, и именно тогда они придут его забрать, когда враждебный ветер подует в сторону Кюприлиу, в конце такого же вечера, как тогда Курта, может быть только с меньшим шумом, чтобы отправить его туда, откуда никто больше не возвращался.
Все эти мысли промелькнули у него в голове, но он не отодвинулся от окна. Ветку цветущего миндаля — вот что я закажу прямо сейчас резчику для своей собственной могилы, подумал он. И хотя он вытер ладонью запотевшее стекло, взгляд его остался по-прежнему туманным, все блестело и искажалось. Тогда он понял, что в глазах у него стоят слезы.
Тирана, 1976–1981
notes
Примечания
1
Салеп — турецкий молочно-белый ароматный напиток из корня орхидеи. — Здесь и далее примечания переводчика.
2
Крешник — герой албанских легендарных эпических песен, всадник, проявляющий невиданный героизм и бесстрашие. Слово входит в состав устойчивого словосочетания «эпос крешников».
3