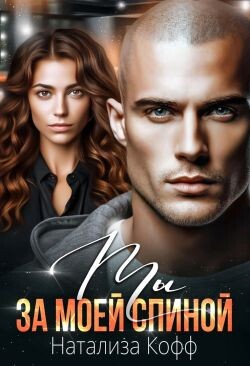Счастливые девочки не умирают - Кнолл Джессика
Толпа расступилась передо мной, как при замедленной съемке.
– О боже, – ахнула Элисон Кэлхоун, моя одногодка, которая в первый день встретила меня ледяным презрением, но, заметив меня в компании Хилари и Оливии, стала целовать мне зад. Она злорадно прыснула в кулак.
У дверей в комнату отдыха мне стало ясно, из-за чего весь сыр-бор: на настенной доске объявлений болтались мои шорты, те самые, в которых я бегала вчера на тренировке, а над ними висел листок с надписью и кучей ошибок: «Нюхни шлюшку (асторожно: ваняет!)» Яркие округлые буквы, написанные от руки – такими обычно пишут приглашения на благотворительную ярмарку. Явно девчоночий почерк. Припомнив, как странно вели себя в раздевалке Хилари и Оливия, я содрогнулась от догадки.
Я выбралась из толпы все по тому же оставленному для меня проходу, вошла в туалет и заперлась в кабинке. Вчера у меня начались месячные, и я страшно обрадовалась: значит, таблетка сработала. После тренировки я заметила на шортах бурые пятна. Пропотевшие, выпачканные менструальной кровью шорты, должно быть, выглядели и пахли просто отвратительно. Я так поразилась неожиданному появлению ХО-телок в раздевалке, что не проверила, сунула ли шорты в рюкзак.
Дверь в туалет распахнулась, и до меня долетел обрывок фразы:
– …так ей и надо.
– Послушай, тебе не кажется, что это слегка перебор? – возразил другой голос.
Я бесшумно взобралась с ногами на унитаз.
– Дин перегибает палку, – продолжал тот же голос. – Сегодня это смешно, а завтра она будет валяться в реанимации, как Бен.
– Бен не виноват, что он голубой, – возразил первый голос. – А она сама виновата, что ее держат за шлюху.
Второй голос хихикнул. Я едва сдержалась, чтобы не всхлипнуть. Зашумела вода, зашуршали бумажные полотенца. Дверь распахнулась и закрылась. Наступила тишина.
Я никогда не прогуливала школу. Монахини так крепко вдолбили в меня христианское смирение, что даже сегодня я не могу сказаться больной на работе. Но тот день выбил меня из колеи, вкатав в асфальт всегдашний страх ослушаться. У меня сперло дыхание от обрушившегося унижения. Без конца теребя пальцами прядь волос («стереотипное поведение с целью самоуспокоения», – сказал бы специалист по языку тела), я дождалась звонка на урок, обождала еще минут пять, чтобы не наткнуться в коридоре на опоздавших, и быстро вышла из туалета, направившись к черному входу. Я собиралась доехать на поезде до Тридцатой улицы и целый день бродить по городу. На середине парковки меня окликнули. Это был Артур.
– Где-то тут были остатки лазаньи, – сказал Артур, оглядывая недра урчащего холодильника.
Я взглянула на кухонные часы: четверть одиннадцатого.
– Я не буду.
Артур подхватил обеими руками кастрюльку, сверху которой жирно блестела запеченная сырная корочка, и толкнул бедром дверцу холодильника. Затем щедрой рукой отрезал кусень лазаньи и сунул тарелку в микроволновку.
– Ох. Совсем забыл. – Он слизнул с пальца томатный соус, рухнул на колени и принялся шарить в своем рюкзаке. – Держи.
В меня полетели мои спортивные шорты.
Они были легче бумаги, но, поймав их, я тяжело охнула, словно меня пнули в живот.
– Откуда они у тебя? – выдохнула я, расправляя их на коленях, как натянутую салфетку.
– Можно подумать, к ним, как к «Джоконде», не подступиться, – ответил Артур.
– В смысле?
Артур застегнул молнию на рюкзаке и выразительно на меня покосился.
– Ты что, в Лувре не была?
– А где это?
– Мама дорогая, – закатил глаза Артур.
Запищала микроволновка, и Артур завозился с тарелкой. Пока он стоял ко мне спиной, я незаметно нюхнула свои шорты. Должна же я знать, что унюхали все остальные.
Пахли они прескверно. Резкий первобытный запах словно разъедал легкие. Я скомкала их и затолкала в рюкзак. Подперев голову рукой, я снова заплакала, и с кончика носа закапали слезы.
Артур сел напротив, молча уминая дымящуюся лазанью с мясом.
– Когда я доем, я тебе кое-что покажу. Это тебя утешит, – пробубнил он с набитым ртом.
В считаные минуты от кусища лазаньи не осталось и следа. Артур бросил грязную тарелку в мойку и, поманив меня рукой, направился к двери в углу, за которой, наверное, была кладовая или стенной шкаф. В старом доме, где жил Артур, было полным-полно дверей, ведущих бог знает куда – на лестницу, в стенные шкафы, в каморки, загроможденные кушетками в цветочек с наваленными на них кипами книг и папок. У семьи Артура по материнской линии когда-то водились деньги, но они были так накрепко заморожены в каких-то фондах и ценных бумагах, что потратить их было невозможно. Мистер Финнерман, отец Артура, бросил семью восемь лет назад, что стало для женщины настоящим ударом. Но, по существу, это означало, что одним ртом теперь меньше. Когда она поняла, что мистер Финнерман всю жизнь будет валяться в постели до полудня, то вскоре после рождения Артура устроилась в Брэдли, чтобы сын мог учиться в престижной школе. В Мейн-Лайне не все живут на широкую ногу, но в семье Артура были совершенно другие приоритеты, нежели у моих родственников. Путешествия, образование, культура – вот на что тратили сбережения Артур и его мама, а вовсе не на шикарные тачки, блестящие логотипы или украшения.
Выходцы из старой «денежной аристократии» имели в Мейн-Лайне куда более высокий статус, чем нувориши. Отчасти поэтому Артур презирал Дина. Артур обладал другим капиталом, куда более ценным, чем последняя модель «Мерседеса»: знаниями. Он знал массу всякой всячины: например, что за столом солонку принято передавать вместе с перечницей, и что нельзя пережаривать бифштекс. Он знал, что на Таймс-сквер лучше не соваться и что в Париже двадцать административных округов. Он готовился поступать в Колумбийский университет – причем на льготных основаниях, благодаря связям и высоким оценкам.
Держась за ручку двери, Артур обернулся ко мне.
– Ты идешь или нет?
Грязные ступеньки уводили в темноту. Я ненавижу темноту и по сей день оставляю свет в коридоре, когда ложусь спать.
Артур нашарил на стене выключатель; под потолком тускло засветилась одинокая лампочка. Он сделал шаг, и на полу заклубились облачка пыли. Натянутая кожа на его босых опухших ногах лоснилась, как у младенца.
– Как непохоже на наш подвал, – сказала я, ступая почти след в след по бетонному полу. Обшивка стен отвалилась, обнажив косматые грязно-желтые внутренности. Вдоль одной из стен была свалена старая мебель, валялись коробки с истертыми дисками, запыленные книжки и старые номера «Нью-Йоркера», почерневшие от плесени.
– Дай угадаю, – ухмыльнулся Артур, взглянув на меня через плечо. В желтушном свете лампы его прыщи приобрели лиловый оттенок. – Ковролин?
– Ну и что?
Артур направился к развалам у дальней стены, не удостоив меня ответом.
– Чем тебе ковролин не угодил? – на весь подвал спросила я.
– Дурной вкус, – заявил он, переворачивая коробки.
До конца своих дней я буду жить только в домах с деревянными полами.
Артур присел на корточки, и на секунду его лицо скрыла копна сальных волос.
– Вот это да, – послышался глухой смех. – Смотри, что я нашел.
Выпрямившись, он высоко, как жрец перед жертвоприношением, поднял оленью голову.
– Скажи мне, что она не настоящая, – поморщилась я.
Артур развернул голову мордой к себе и в раздумье уставился в невинные глаза оленя.
– Еще какая настоящая, – заключил он. – У меня отец охотник.
– Я против охоты, – сухо заметила я.
– Но не против ветчины. – Оленья голова рухнула в картонную коробку. Ветвистые рога вздернулись к потолку, как бобовый стебель, ведущий в никуда. – Просто за тебя грязную работу делают другие.
Я скрестила руки на груди. Разумеется, я имела в виду, что осуждаю охоту для развлечения, но спорить с Артуром и затягивать вылазку в подвал мне не хотелось. Мы не пробыли здесь и пяти минут, а я уже покрылась гусиной кожей от холода.