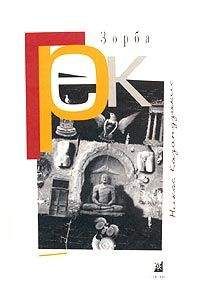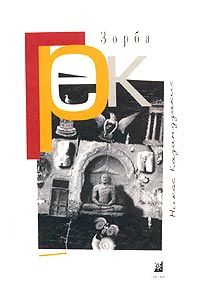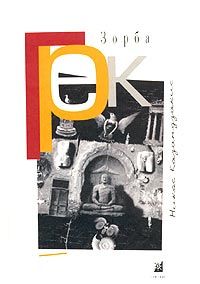Я, грек Зорба (Невероятные похождения Алексиса Зорбаса) - Казандзакис Никос
Итак, они в смертельной опасности. Они потеряли все, что имели, они голы и голодны. С одной стороны, их преследуют большевики, с другой — курды. Беженцы собираются в нескольких городах Грузии и Армении. Нет ни пищи, ни одежды, ни лекарств. В портовых городах они с тоской всматриваются в морскую даль, надеясь на греческое судно, которое отправится с ними к берегам матери Греции. Часть наших соплеменников, иначе говоря, частица нашей души находится во власти паники.
Если мы их оставим на произвол судьбы, они погибнут. Нужно иметь большую любовь и понимание, энтузиазм и практический ум (эти два качества ты так любил видеть вместе), чтобы спасти их и переселить на нашу свободную землю, туда, где будет наибольшая польза для нашего народа — вверх, к границам Македонии и еще дальше, к границам Фракии. Только так будут спасены сотни тысяч греков, а вместе с ними и мы. С той минуты, как прибыл сюда, я, по твоему совету, очертил круг своих действий, назвав это «моим долгом». Если я полностью выполню намеченное, я тоже буду спасен; если же не спасу людей, то пропаду сам. Итак, на моей совести находится около пятисот тысяч греков.
Я мотаюсь по городам и деревням, собираю греков, составляю доклады и телеграммы, пытаюсь заставить наших мандаринов в Афинах послать суда, продукты, одежду, лекарства и перевезти несчастных в Грецию. Усердно и настойчиво бороться — это счастье, и я счастлив этим. Не знаю, возможно, ты об этом говорил, что каждый выбирает счастье по своему «росту»; видно, так угодно небу, иначе я был бы высокого роста. Я хотел бы вытянуться до самых отдаленных границ Греции, они же были бы и границами моего счастья. Но довольно теорий! Ты возлежишь на своем критском пляже, слушаешь море и сантури, у тебя есть время, у меня же его нет.
Тема моих размышлений сейчас очень проста. Я знаю, что жители побережья Черного моря, Кавказа и Карса, крупные и мелкие торговцы Тифлиса, Батума, Новороссийска, Ростова, Одессы, Крыма — наши, нашей крови: для них, как и для нас, столица Греции — Константинополь. У всех нас один и тот же вождь. Ты его называешь Одиссеем, другие Константином Палеологом, но это не тот, что был сражен у стен Византии, а другой, о ком сложены легенды; воплощенный в мраморе, он стоит, как ангел свободы. Я же, с твоего разрешения, вождем нашей нации называю Акритаса.
Его имя мне особенно нравится, оно более строгое и грозное. Как только я слышу его, во мне сразу пробуждается дух древнего воинственного эллина, который без устали сражается на границах. На всех границах: национальных, интеллектуальных, духовных. А поскольку он еще и Диоген, можно дать более полную характеристику нашей нации, в которой чудесным образом смешался Восток и Запад.
Сейчас я нахожусь в Карее, где хочу собрать греков из всех ближайших деревень. В день моего приезда курды схватили недалеко от города попа и учителя и подковали их, как мулов. Именитые граждане в ужасе укрылись в доме, где я жил. Мы слышим залпы приближающихся курдских пушек. Глаза всех были устремлены на меня, словно я один был в силах их спасти.
Я рассчитывал на следующий день уехать в Тифлис, но теперь, в такую опасную минуту мне стыдно уйти, поэтому я остаюсь. Мне, конечно, страшно, но и стыден но. Мой любимый рембрандтовский воин, разве не сделал он то же самое? Когда курды войдут в город, справедливее будет, если именно меня они подкуют первым. Ты наверняка не ожидал, учитель, что твой ученик погибнет, как мул. и на рассвете мы пустимся в путь на север. Я буду идти впереди, наподобие барана, вожака стада.
Патриархальный исход народа через горные цепи и долины с легендарными названиями! А я вроде Моисея — Псевдо-Моисей, ведущий избранный народ к Земле обетованной, как называют эти простаки Грецию.
Чтобы остаться на высоте своей миссии и дабы ты не стыдился, мне, видимо, нужно было снять свои элегантные краги, служившие объектом твоих насмешек, и обернуть ноги обмотками из овечьих шкур.
Неплохо было бы к тому отпустить буйную длинную засаленную бороду и, что самое главное, отрастить рога. Извини меня, но я тебе такого удовольствия не доставлю. Гораздо легче для меня поменять душу, чем костюм. Я ношу краги, чисто выбрит, будто капустная кочерыжка, и не женат.
Дорогой учитель, я надеюсь, что ты получишь это, кто знает, возможно, последнее письмо. Не верю в тайные силы, которые, как говорят, защищают людей, а верю в слепой случай, когда бьют направо и налево, без злобы и цели убивая всякого. Если я покину эту землю (я сказал «покину», чтобы не напугать тебя и не испугаться самому, воспользовавшись более подходящим словом), итак, если я покину землю, тогда будь счастлив и крепок здоровьем, дорогой учитель! Мне стыдно это говорить, но сейчас необходимо, извини меня, — я тебя тоже очень крепко любил».
И ниже написанный в спешке карандашом постскриптум: «P. S. Договор, который мы заключили на пароходе в день моего отъезда, я не забыл. Если я должен буду «покинуть» землю, предупрежу тебя, знай это, и где бы ты ни был, не пугайся».
13
Прошло три дня, затем четвертый и пятый. Зорба не возвращался.
На шестой день я получил из Кандии письмо на нескольких страницах, настоящий роман. Оно было написано на розовой благоухающей бумаге, в одном из уголков было сердце, пронзенное стрелой.
Я его заботливо сберег и переписал, сохранив попадавшиеся вычурные выражения. Единственное, что я исправил, это забавные орфографические ошибки. Зорба держал перо наподобие заступа, с силой нажимая на него, отчего во многих местах бумага была порвана и забрызгана чернилами.
«Дорогой хозяин, господин капиталист. Я взялся за перо, чтобы в первую очередь, спросить, здоров ли ты, и, во-вторых, сообщить, что мы, слава Господу, чувствуем себя хорошо!
Что касается меня, я давно заметил, что пришел в этот мир не лошадью или там быком. Только животные живут, чтобы есть. Во избавление от вышеизложенных обвинений я сам себе день и ночь создаю работу, рискуя хлебом насущным ради идеи, и, переиначивая пословицу, говорю: „лучше журавль в небе, чем синица в руках”. И еще: „Пташке ветка дороже золотой клетки”.
На свете много патриотов, и это им ничего не стоит. Я вот не патриот, даже если это мне боком выходит. Многие верят в рай и мечтают затащить своего осла на его богатые пастбища. У меня нет осла и потому я свободен, ибо не боюсь ада, где осел мог бы погибнуть, и, тем более, не надеюсь на рай, в котором он будет объедаться клевером. Я необразован, не умею говорить, но ты, хозяин, меня поймешь.
Многие люди тщеславны; я же ни о чем таком не думаю. Я не радуюсь добру и не печалюсь из-за неудачи. Если бы я узнал, что греки взяли Константинополь, для меня это было бы то же самое, что захват турками Афин.
Если, прочитав мои писания, ты думаешь, что я ослаб умом, сообщи мне. Я хожу по магазинам Кандии и покупаю кабель для канатной дороги, а в остальное время веселюсь.
„Чему ты радуешься, друг?” — спрашивают меня. Как же им объяснить? Я смеюсь, например, потому, что в ту минуту, когда тяну руку, чтобы проверить, хороша ли проволока, меня вдруг одолевают мысли о человеке — что он делает на земле и на что он годен… Да ни на что, по-моему. Все едино: есть у меня жена или нет, порядочный человек или негодяй, паша или грузчик, разница лишь в том, живой я или мертвый. Позовет меня дьявол или Бог, для меня, видишь ли, это одно и то же — я подохну, превращусь в зловонный труп, отравлю людям воздух, и они вынуждены будут зарыть меня на четыре фута, чтобы не задохнуться.
Правда, я сейчас кое в чем тебе признаюсь, хозяин: единственно, что пугает меня, что не оставляет в покое ни днем ни ночью — я, хозяин, боюсь старости, сохрани нас небо от нее! Смерть просто чепуха, просто фу! — и свеча погасла. А вот старость — это позор.
Мне стыдно признаться, что я старик, и я стараюсь, чтобы никто этого не понял: скачу, танцую, поясница болит, но я танцую. Когда пью, голова моя кружится, все вертится, но я не спотыкаюсь, веду себя так, будто ничего такого нет. Весь в поту, я бросаюсь в море, простужаюсь, мне хочется кашлять: кх, кх, чтобы почувствовать облегчение, но мне стыдно, хозяин, я подавляю кашель—ты когда-нибудь слышал, как я кашляю? Никогда! И это, можешь мне поверить, не только на людях, но и когда я совсем один. Мне стыдно перед Зорбой, хозяин. Мне стыдно перед ним.