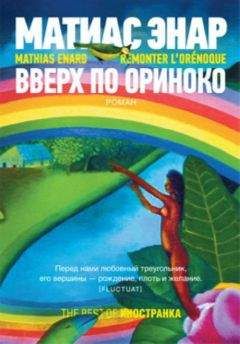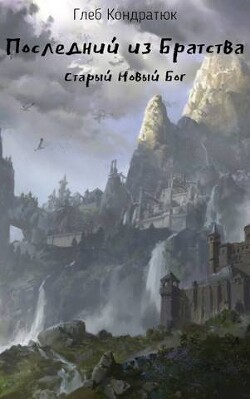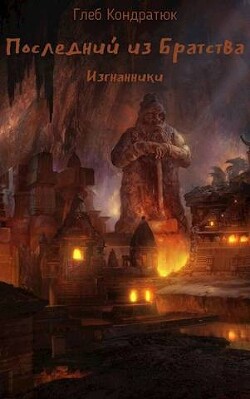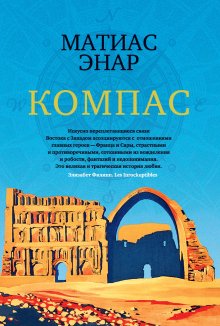Ежегодный пир Погребального братства - Энар Матиас
* * *
Люси отвечала молодому этнологу с искренностью, хотя и не любила выходить на первый план: собственная жизнь казалась ей, в общем-то, заурядной. Давид слушал внимательно, что-то помечал; дед тем временем в сотый раз прокручивал в уме жуткую историю своей жизни, как всегда, сидя на продавленном соломенном стуле у камина; перед ним снова проходили образы — его мать Луиза, Иеремия, все те, кого могильщики давно уже предали земле, их лица путались в сознании старика; и он уже плохо отличал дочку от жены, внучку от матери, все женские образы сливались в один, кружились перед глазами старца тусклыми призраками, он увидел сидящую на стуле Люси, и тусклый уголек похоти вспыхнул у него в мозгу, как вспыхивает в очаге тлеющая головешка, и он тут же стал чесать себе штаны, что шокировало бы молодого ученого, заметь он ненароком этот жест, ибо при всей своей зацикленности на сексе был удивительный ханжа, впрочем, это только на первый взгляд выглядит противоречием, — и пока Люси рассказывала ему свою жизнь, детство, учебу в сент-пезеннской школе агрономии недалеко от Ниора, первые свои шаги на сельскохозяйственном поприще, Давид все глубже погружался взглядом в ворот ее блузки и далее в ложбинку меж грудей, почти бессознательно, как бы проверяя, работает ли диктофон, размещенный на столе прямо перед бюстом Люси. Давид Мазон попутно отмечал (а Люси продолжала вспоминать начало работы в поле, родителей, родню и друзей детства), что бюст этот вблизи явно пышнее, чем казалось первоначально, а такое открытие не может не радовать; он унесся мыслями далеко от темы беседы, теперь уже неотрывно уткнув взгляд — как вымпел или авторучку — в складку чужого тела… его воображение не знало пределов. Или почти не знало. Конечно, ему бы и в голову не пришло, равно как и предмету его внимания, что Люси в предыдущих жизнях была протестанткой, павшей от рук драгунов Людовика XIV, оголтелым революционером, казненным по приказу Комитета общественного спасения, несчастным солдатиком на Первой мировой, убитым снарядом, и целой тучей крестьянок и крестьян, умерших кто в своей постели, кто при родах, кто от болезни или пьянства, а кто-то еще задавленным телегой или от жутких ран, большинство без всякой врачебной помощи, но почти все по-христиански, какой бы вариант этой веры они ни исповедовали. Не исключено, что Люси и Давид уже встречались бесчисленное множество раз в своих прошлых жизнях и снова встретятся в будущих, и не вспомнят об этом ничего, кроме того странного ощущения дежавю, которое иногда охватывало Люси, когда она ловила молодого этнолога за разглядыванием собственной груди — и все же продолжала рассказывать ему о своем детстве, проведенном в Сент-Пезенне — маленькой деревушке, лежащей в нескольких километрах к югу, за излучиной Севра, и названной именем забытой прекрасной девы, которую христиане звали Пиксина, Пезенна или Пазанна. Легенда гласит, что благочестивая испанка примерно в 800 году ушла в глубь болот, спасаясь от сараци-нов, — и эта Печина, названная в честь раковины паломника, поселилась с девицами Макриной и Ко-ломбой в обители недалеко от города Ниор, где такой цветник привлек внимание вельможи по имени Оливье. Оливье решил завладеть тем, что было уготовано лишь Господу, и красавицам пришлось бежать от вооруженных людей, которые пришли их похищать. После семи дней мучительных блужданий среди равнин и болот Пексина-Пезенна выбилась из сил и пала бездыханной на плечо своей подруги Макрины. Ее бренное тело отвезли в деревню, тогда называвшуюся Товиникус, которая в результате стала носить имя святой, о которой Люси не знала, можно сказать, ничего; она, конечно, не подозревала, как мощи святой Пезенны оказались в испанском Эскориале, недалеко от Мадрида, она слыхом не слыхивала про «возвращение» фаланги пальца этой девы в 1956 году в виде почтового отправления, доставленного в Пуатье в коробке из-под бытовых спичек марки «Голондрина», обернутой пурпурным бархатом и выложенной изнутри ватой, пока ей не подобрали отличный золотой реликварий, красивую стеклянную раку, и не поставили навечно в церковь, где Люси могла видеть ее в момент своего первого причастия. Она, разумеется, совершенно позабыла про священную костицу, которая нечасто выходила на свет божий, разве что иногда на 26 июня, когда чествовали святую деву с раковиной, — как раз перед жатвой.
Церковь и пресвитерий детства Люси находились недалеко от ее школы, солидного здания с шиферной крышей и деревянными скамьями, чей двор выходил на круто спускавшуюся к реке каштановую рощу — каштаны давали снаряды и идеальное поле для детских баталий; склон и река никак не мешали вести титанические сражения, обильно используя ветки, палки, камни и резинки. У самой Люси до сих пор красовался на лбу след одной из таких стычек — шрам от каштана, с такой силой пущенного из рогатки, что он рассек ей кожу и, каку Гомера, завесил взор красной пеленой прежде, чем все погрузилось во тьму. Давид не заметил следа тех славных боев — небольшого валика между двумя морщинками, но тогда рана у Люси обильно кровоточила; девочка лежала на косогоре, в куче опавших листьев, головой уткнувшись в корень дерева, без чувств — не от удара, а от испуга, от страха при виде крови, а ее товарищи, такие же бледные, стояли вокруг траурным караулом, не смея дотронуться до нее, пока один индеец (в венце из голубиных и куриных перьев, прилепленных скотчем к картонке, и с томагавком из ржавого отцовского молотка) не вскарабкался по склону и не позвал на помощь: она явилась в лице одной из сотрудниц соседней библиотеки, которая сначала порвала колготки, продираясь сквозь кусты, а потом испачкалась кровью, поднимая девочку с земли, — и та немедленно проснулась. Люси не стала добычей могильщиков, хотя и получила снаряд прямо в лоб, оказавшись в этом смысле удачливее великанов прошлых лет. Ей запретили играть в рощице на склоне, запретили набивать карманы каштанами в расчете на грядущую месть и в конце концов срубили и сами каштаны, снабжавшие боеприпасами многие поколения оболтусов, и заменили их кленами, чьи семена будут пикировать и крутиться в воздухе, как подбитые вертолеты, на асфальтовый школьный двор.
Ферма родителей Люси стояла на несколько сот метров дальше к северо-западу, как раз перед тем, как равнина резко уходит в извилины Севра; сегодня эта зона покрыта коттеджами всех форм и цветов, а около тридцати лет назад здесь еще сохранялись поля, плоские и неогороженные, по которым тянулись скирды люцерны или сена и высились пирамиды из старых покрышек, где можно было устраивать шалаши и туннели, изгоняя целые стаи полевок, — их было так много, что у кошек глаза разбегались. Возможно, именно потому, что отец был животновод, Люси выбрала садоводство и огородничество — далекие от разведения скота, от перипетий жизни и смерти, запахов антисептика и скисшего молока, навоза и крови, но далекие также и от чудес детства — первого отела, ради которого отец поднял ее среди ночи, — в итоге роды оказались такими тяжелыми, что все забыли про девочку в пижаме, которая стояла в тапках на соломе, прижимая к себе плюшевого мишку, и когда, несмотря на заведенные ремни (петли накидывали на ножки теленка и вытягивали его, как рычагом), плод так крепко застрял в тазе матери, что пришлось завалить корову и звать не только ветеринара, но и соседей, и когда в конце концов склизкого теленка окатили из ведра, а потом еще прыснули ему ледяной воды в уши, чтобы взбодрить, и когда он наконец задышал и пошевелился, никто уже не мог отобрать у Люси плюшевую игрушку и убедить ее, что случившееся было прекрасно или чудесно; наверняка оно было для чего-то необходимо, но так далеко от обещанного волшебства, — она ощущала его мучительность и угадывала банальность: одна душа сменяет другую в теле, которое, едва родившись, уже несет на себе знаки смерти, крови и слизи.
Люси душой воспринимала (правда, так и не сумев оформить словами) движения Колеса, несущего все живое от смерти к рождению и от возрождения к смерти, всегда в муках, от кровавых рук акушерок до плеч скучнолицых могильщиков, к земле или огню, без средства избежать судьбы, и, отвечая на вопросы Давида Мазона, она тоже витала мыслями где-то далеко, как и старец — ее дед, который сидел на стуле, уставясь в камин и забыв руку на ширинке, блуждая в воспоминаниях и не зная, что жить ему остается несколько месяцев, что умрет он весной, незадолго до ежегодного пира Погребального братства: он проснется однажды на рассвете и обнаружит в столовой посреди стола огромную бутыль водки и коробку бельгийских шоколадных конфет, красиво обвязанную красной ленточкой; старик недоверчиво поскребет кепку, посмотрит вправо-влево в надежде обнаружить причину таких щедрот, но некому будет объяснить ее; он немного посомневается, покрутит в руках коробку с конфетами, проведет по бутылке пальцем от горлышка до дна; потом съест первую сласть и хмыкнет от удовольствия, шоколадная глазурь — чистое наслаждение, сахар растечется по желудку; и, не в силах остановиться, старик схрупает всю коробку, как маленький, быстро-быстро, пока никто не пришел, — но никто не придет, и тогда, охваченный непомерной жаждой, он встанет, распрямится хилой тростинкой, схватит бутылку водки — как прежде, как всегда, выдернет твердой рукой пробковую затычку, поднесет горлышко к дрожащим губам, разинет пасть, чтобы принять запретный бутылек большими глотками, обрушить по крутому спуску и опорожнить — опорожнить так быстро и так жадно, что свидетель возгласил бы о чуде: «С нами святой Дионисий!» — а дедуля выдохнет, икнет, потом его искусственная челюсть в последний раз выскочит вперед, глаза закатятся к потолку, и он падет жертвой интоксикации — рухнет на пол под звон бьющегося стекла.