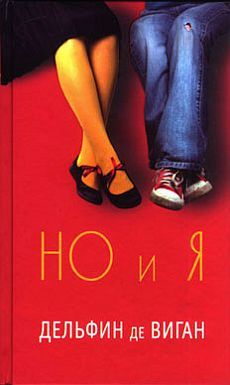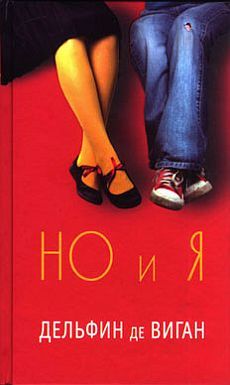Преданность - де Виган Дельфин
Я несколько секунд смотрела на него, сначала молча, а после спросила:
— Ты точно ничего не хочешь мне сказать?
Он так хмыкнул, как делает обычно, чтобы скрыть смущение, он чувствовал, что вопрос не случаен, что он выходит за рамки привычного обмена репликами, к которым теперь сводится наше общение, — Уильям совсем не глуп. Он смерил меня вопросительным взглядом, он ждал продолжения. Я снова спросила:
— Ты действительно не хочешь мне ничего сказать… о себе, о том, что ты делаешь?
Дальше я двинуться не смогла. Не хватило духу. Но я уверена, что в этот момент он понял.
Он заколебался.
На десятую долю секунды.
Я увидела это, потому что хоть и не знакома с Вилмором, зато Уильяма знаю прекрасно: чуть дрогнуло веко, пальцы сомкнулись, легкий смешочек — так он обычно уходит от разговора.
Потом он коснулся моей щеки, быстро, украдкой — жест из нашей прежней, давней-давней жизни, до детей, до компьютеров, до мобильных телефонов, до Всемирной паутины.
Он встал. И, уже повернувшись ко мне спиной, обронил:
— Надумала неизвестно что.
Уильям закрылся в своем кабинете. По телевизору шел документальный фильм о производстве пиццы, рассказывали про пищевые добавки и модификаторы вкуса, которыми маскировали посредственное качество ингредиентов начинки, и такое мошенничество вскрылось только после долгого расследования, которое велось в полной тайне, со страшным риском и под тревожную музыку. Настоящий детектив. На самом деле мне было вообще плевать на сюжет, но я досмотрела до конца. В предыдущее воскресенье показывали расследование про кокосовые орехи. С каких это пор в прайм-тайм показывают по телевизору документальные фильмы про котиков или рубленые бифштексы?
Я несколько минут разговаривала сама с собой — хотелось это обсудить. Мой голос теперь не просто подбадривает меня — он высказывает мнения!
Из-за двери сообщила Уильяму, что иду спать. Убрала пару вещей, которые остались в кухне, и задернула шторы в гостиной.
Затем я проделала все, что предшествует отходу ко сну (снятие косметики, цветочный лосьон, ночной крем, крем для рук), — нечто вроде ритуала, который выполняют все женщины определенного возраста.
Я легла на кровать, вытянулась. Погасила свет. И тут в уме возникла фраза, так ясно, словно я произнесла ее вслух: «Выпустите меня отсюда».
МАТИС
В тот вечер он дождался, пока отец заперся в кабинете и мать осталась в гостиной одна. Он хорошо приготовился. Набрал воздух в легкие.
— Знаешь, мы в субботу идем с господином Ша-лем в филармонию.
Она удивлена — этого он ожидал.
— Да? А когда это назначили? Разве вы туда не ходили?
— Нет, мы ходили в Опера Гарнье. Ты что, забыла? Это же было на бумажке, которую ты недавно подписывала, ты даже деньги дала.
— Да где бумажка-то?
— Вернул господину Шалю: он собирает разрешения от родителей.
Она на секунду останавливается. (В последние пару дней она все сортирует вещи. Складывает и складывает, словно их из квартиры выселяют.) Матис чувствует, как куча мурашек копошится и урчит у него в животе, и молит Бога, чтоб мать не услышала.
Она как будто озадачена. Но у него готовы ответы на любые вопросы.
— В субботу вечером?
— Ну да, потому что коллеж смог достать льготные билеты: там какая-то группа пенсионеров отказалась в последний момент. Господин Шаль сказал, что это прекрасная возможность, хотя места и не очень близко от сцены.
— Всем классом идете?
— Нет, только те, кто ходит на музыку.
— И что за программа?
— Большой парижский оркестр. Генри Пёрселл и Густав Малер.
Он продумал все детали: как поедут, как вернутся, какие преподаватели будут сопровождать. Его мать такая наивная, что поверит, что школьников поведут в филармонию в субботу вечером. Туда взрослым не попасть.
Врать очень легко. Он ради удовольствия даже готов прибавить лишние детали. И говорит голосом такого мальчика-паиньки:
— Нас мадам Дестре должна была вести, но на самом деле пойдет другой учитель, потому что она заболела.
Странно, но это пояснение словно успокаивает мать и подкрепляет истинность его слов.
Она говорит, что заберет его после концерта, чтобы он не возвращался один. Он умоляет ее не приходить: это же позор, что он, маленький, что ли, все будут смеяться; господин Шаль сказал, что сам разведет по домам тех, кто живет недалеко от коллежа, чтобы не беспокоить родителей, у которых есть планы на вечер.
Она в конце концов сдается, и ему кажется, что она уже думает о чем-то другом, или нет сил допытываться… Уже несколько дней она выглядит так, словно ведет какую-то тайную жизнь, очень бурную и утомительную.
Чуть позже, когда он как раз собирался гасить свет, она заходит в его комнату.
И спрашивает в лоб, без всякой подготовки:
А скажи, Матис, ты мне не врешь?
Он ни секунды не колеблется.
— Нет, мамочка, честное слово!
ТЕО
Мороз укрыл город папиросной бумагой. Припудрил тончайшим белым порошком лужайки эспланады. Скамейки пусты, ветер прогнал прохожих.
Они встретились ровно в восемь вечера.
Батист сказал им стоять наготове за углом, в нескольких метрах от входа в сквер, возле знака «проезд запрещен».
Все стали ждать его сигнала.
Потом один за другим одинаково ловко и бесшумно перепрыгнули заграждение и спрятались в кустах. Первая передышка — удостовериться, что никто не видел.
Несколько минут спустя они стали продвигаться дальше, в глубь сада. Цепочкой, след в след, Батист — впереди.
За деревьями обнаружился небольшой просвет, поляна. На земле еще угадывался контур песочницы, теперь засыпанной землей. Батист сказал им сесть в этом месте в кружок и чуть на расстоянии друг от друга, чтобы можно было играть.
Батист с друзьями принесли несколько двухлитровых бутылок из-под фанты со смесью джина и газировки. Половина на половину. Он предлагает выпить по первой, для разогрева, и раздает каждому по пластиковому стаканчику.
Очень сладко и очень бьет по мозгам. Тео выпивает стаканчик залпом — слезы выступили на глазах, но он не поперхнулся.
Он ждет, пока волна тепла разойдется по телу, согреет плечи и спустится вниз по хребту.
Квентин ржет: Тео такой маленький, а пьет до дна.
Батист дает им несколько советов: чтобы не замерзнуть, не надо сидеть долго на одном месте. Каждый время от времени должен вставать и прыгать, и хлопать в ладоши, чтобы согреться.
Тео ничего не говорит. Он прислушивается к себе, подстерегает ощущение тепла, которое все не приходит, посматривает на других. Матис бледен и, похоже, испуган. Может, потому, что соврал матери. Юго сидит возле брата и сосредоточенно ждет его указаний. Пока старшие обсуждают дальнейшую программу, Тео наливает себе еще стаканчик пойла и выпивает так же быстро, как в первый раз. Никто ничего не говорит.
Теперь Батист объясняет правила игры. Он задает каждому вопрос, а потом тащит карту. Например: красная масть или черная? Пики, крести, черви или бубны? Если угадал — пьет он. Если ошибся — пьешь сам. Потом наступает черед следующего, и все идет по новой. Ну и дальше по часовой стрелке.
Все кивают. Все согласны. Они привыкли, что он заводила и все решает сам.
Царит сосредоточенное молчание.
Но тут вступает Тео:
— А можно мне тоже задавать вопросы?
Он не оспаривает старшинство Батиста или его право распоряжаться, он не сказал «хочу», он сказал «а можно мне». Он — дитя режима раздела имущества, дитя озлобления, бесчисленных претензий и выплаты алиментов: он знает правила дипломатии.
Все взгляды обращаются к Батисту, тот улыбается: забавный какой мальчишка.
Квентин ржет.
Батист несколько секунд оценивающе смотрит на Тео. Прикидывает, соперник или нет. Ни малейшего признака бунта. Одни детские хотелки.
— Кому? Тебе? Ты, что ли, будешь задавать вопросы? Ты соображаешь, что, по моим правилам, если ведешь игру, рискуешь выпить в пять раз больше остальных?