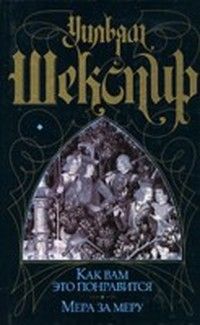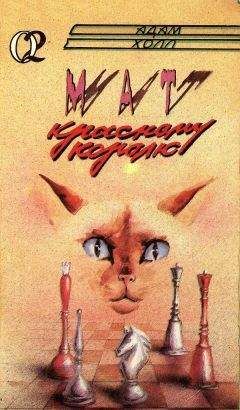Ты, я и другие - Кирни Финнуала
«Он ведь снова тебя бросит!» — хочется закричать мне в экран монитора, набить текст на клавиатуре. Но я сдерживаюсь. Желаю ей счастья, а про себя думаю, что «ее Колин», как она его называет, вскоре снова вернется к своей тощей красотке или к кому-то ей подобному.
Смотрю в пространство остановившимся взглядом.
Возможно, моя мать права. Возможно, я спешу судить; возможно, этого делать не стоит. Но затем снова представляю, как Адам дерет белобрысую шлюху. Представляю со всеми подробностями.
Нет уж. Никакого прощения.
Глава 12
После встречи с Мэттом в «Старбаксе» я почти неделю разгребал собственное дерьмо. Он любезно разъяснил мне, какой я козел, и посоветовал хоть немного привести себя в норму.
Сейчас мы снова сидим в кофейне, но я чисто отмыт и выбрит. На мне джинсы после химчистки и накрахмаленная белая рубашка.
— Мне нужны еще несколько выходных.
Отдаю себе отчет в том, что ставлю Мэтта перед фактом. Сдуваю пенку со своей второй чашки латте.
Плюх! — и на моих безупречных штанах красуется шлепок.
Мэтт смотрит на меня, положив подбородок на сцепленные руки. За последние полчаса мы заново обговорили всю ситуацию с Гренджерами, и я много чего услышал. Впрочем, заслужил.
— Только до конца недели, — добавляю я. — В понедельник выйду.
— У тебя все нормально?
— Зашибись. Просто надо приучить себя к мысли, что брак разваливается, через несколько недель возвращается в Лондон брат, а мне негде жить. И, да, меня отстранили от работы с партнерами, которых я добыл фирме.
Мэтт глубоко втягивает воздух. Думает, что ответить.
Я знаю, сказать ему нечего, все это вовсе не его вина. Однако мне нужен козел отпущения, чтобы было кого обвинить в предательстве Гренджеров. Не я же в этом виноват, правда?
— Через некоторое время они успокоятся, Адам.
Пусть все немного уляжется. Почему бы тебе не съездить отдохнуть?
Греться на солнышке — одному? Я ни разу не проводил отпуск сам по себе, не собираюсь и пробовать.
— Может, Эмма согласится составить тебе компанию?
— Он как будто читает мои мысли.
Может, и согласится. Но мысль о том, как мы с Эммой весело возимся на песчаном пляже и она вся такая в белом бикини, почему-то не наполняет меня энтузиазмом.
— Выйду в понедельник.
Мэтт закусывает нижнюю губу, а я ухожу.
Мне здесь не место. Я знал это, еще когда поворачивал машину. Знаю и сейчас, проезжая мимо ее дома; знаю, совершая круг. Привычное действие: так я делаю пару раз в год, — но сегодня все иначе. Сам не понимаю, как здесь оказался; чувствую себя таким неприкаянным, что испытываю потребность хоть мельком бросить взгляд, прикоснуться хоть к крошечному мгновению той жизни. Возможно, даже остановиться, постучать в дверь — и спросить у Киры Гренджер, какого черта ее братья послали меня куда подальше.
Ее дом угнездился между вересковой пустошью и Хай-стрит. Я паркуюсь в нескольких метрах от массивных ворот конюшни. Это дом, который едва ли когда-нибудь сможет себе позволить кто-либо из работающей братии; такой по средствам только денежным заправилам. Вокруг — маленький, но ухоженный садик. По обе стороны полированных дверей растут лавры.
Меня колотит. Я закрываю глаза и представляю, как ступаю на изящную плитку, ведущую к главному входу. Поднимаю хромированный дверной молоток и дважды стучу. Она когда-то рассказывала, что молоток в форме головы единорога приобретен в антикварном магазинчике неподалеку. Мои глаза по-прежнему закрыты. Вот стучат ее каблуки, клацают по викторианскому кафелю в черно-белую клетку. Вот она открывает дверь. Пусть годы будут к ней добры. Несколько мелких морщинок в уголках глубоко посаженных голубых глаз — а в остальном она все такая же: черные прямые волосы, собранные в тугой пучок, обрамляют лицо — по-прежнему прекрасное. Она ведет меня в дом, заполненный звуками детского смеха. Этот дом совсем не похож на тот, в котором росли Бен и я, — но мы с Бет постарались создать похожий для Мег.
Бет… Мег… Я моргаю и открываю глаза. Кладу голову на руль, ногтем большого пальца скребу посаженное на джинсы молочное пятно.
Приоткрыв окно, вдыхаю воздух, которым пахнет улица. Последний взгляд — и я уезжаю, пообещав себе, что больше никогда…
Звоню Тиму Гренджеру — уже который раз.
Я твердо настроен выяснить, почему за особенно тяжелую полосу на рынках они решили обвинить меня.
Сворачиваю на Хит-стрит. После четвертого гудка до меня доходит, что он и не собирается отвечать.
Сбрасываю звонок, настраиваюсь на необходимость париться в душном салоне, плетясь по пробкам забитого машинами Лондона. Ни один из братьев Гренджер не станет со мной разговаривать, мой деловой партнер высмеивает меня, жена едва терпит; любовница, похоже, намерена заездить меня, оседлав член и пользуясь им без передышки, — что, конечно, поначалу замечательно, но сейчас мне больше хочется общения.
Поговорить.
Я звоню Мег.
Она сразу отвечает:
— Папа?
— Что у тебя сейчас? Как насчет того, чтобы выбраться на солнышко на несколько дней? О деньгах не думай.
— А экзамены?
— Ох, я и…
— Ну, конечно. Заботливый папочка.
Щелчок. Я представляю, как она швыряет в сторону телефон, и внезапно пугаюсь. Сегодня я не способен ни на что — только расстраивать людей. Неужели теперь весь день пройдет под несчастливой звездой?
При мысли об этом я нажимаю на тормоз, разворачиваю автомобиль и еду на северо-восток в сторону кладбища Хайгейт. Сейчас мне нужны те единственные люди в мире, которые не станут меня судить.
Мои родители похоронены вместе: в смерти они так же рядом друг с другом, как были в жизни. Они почти не обращали внимания на нас с Беном, и я часто думал, что им вообще не следовало заводить детей.
Здесь тихо, только за оградой кладбища еле слышно шумит транспорт. Начало дня, большинство людей на работе. Я тут один — если не считать нескольких местных служителей, сгребающих сухие листья.
Низкое зимнее солнце закрыто облаками; пасмурно и зябко.
Я привычно нагибаюсь, поправляю горшки с цветами.
Достаю пластиковый пакет, расстилаю его на влажной земле и, встав на колени, выпалываю сорняки.
Кажется, что справа ветер доносит голос мамы, тихий и спокойный. Она говорит, как сильно любит нас с Беном; спрашивает, почему я так и не признался Бет.
Скоро передо мной лежит кучка потемневшей травы и прочего мусора. Под стоящими на пластиковом пакете коленями хлюпает: земля еще не просохла от прошедшего недавно дождя. Я наблюдаю за тем, как на джинсах появляются мокрые бурые круги. Бет смогла бы отстирать эти пятна, и грязь, и молоко. Отстирать пятна на одежде. Пятна на жизни. Бет всегда знает, что делать.
Ветер снова доносит голоса: почему, спрашивают они, ну почему — уж если она всегда знает, что делать, — почему ты ей не признался? Зябко кутаюсь в куртку. Меня ругали так раньше, когда я был ребенком, ругали за то, что я вечно поступаю неправильно.
Язвительно улыбаюсь. В самом деле забавно: мои умершие, мои далекие от совершенства родители ругают за ложь меня.
Поднимаюсь и собираю мусор в пакет. Всего лишь навести чистоту за право не слышать осуждений. Ослабевшие ноги тащат тело к скамье; иссеченная непогодой, она прячется под согнутым дубом и, кажется, стонет, когда я плюхаюсь в центр.
Я готов суматошно лупить руками по воздуху, лишь бы изгнать из памяти мамин голос. И пусть работники кладбища полюбуются на придурка, размахивающего конечностями, словно воюющий с мельницами Дон Кихот. Я готов орать: ты несешь чушь! Ты никогда меня не любила! Вы оба никогда меня не любили!
Иначе не бросили бы!
Что касается признания… С какой стати я должен рисковать, рассказывая обо всем этой прекрасной женщине, — той, что перевернула всю мою жизнь, наполнила ее радостью, смехом, своими песнями? Какие слова ей сказать, если я даже не могу просто произнести их вслух?