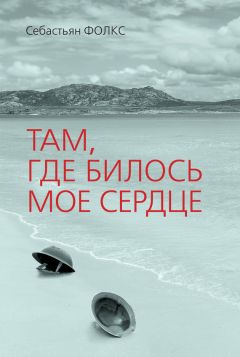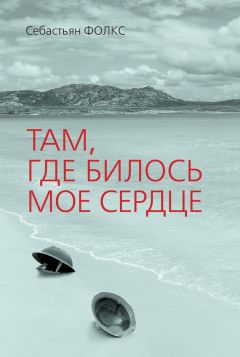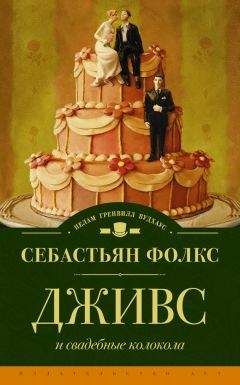Там, где билось мое сердце - Фолкс Себастьян Чарльз
Рассмотрев мозг Фреда, я снова опускал его в ведерко.
Марта тоже была очень привлекательной особой. Даже на сцене анатомического театра она оставалась невозмутимой. Мне хотелось увидеть наяву, как разветвляются нервы. Поразительно, они выглядели точь-в-точь как на грандиозном эволюционном дереве жизни Дарвина. Они тянулись повсюду, эти провода, по которым передается животворная сила. Думаю, меня покорила именно эта их напористая активность, и я выбрал неврологию.
Я все-таки человек сельский. Соскучившись по деревенской жизни, я свел знакомство с парнями из другого колледжа — любителями конной охоты. Какой-нибудь час на автобусе, и я получал возможность пообщаться с лошадками. По воскресеньям в благодарность за то, что я помогал чистить стойла и подметать двор, мне позволяли пару часов покататься верхом. Я записался в хор, хотя голос у меня самый обыкновенный, и в дискуссионный клуб.
Кресло и торшер я очень скоро перетащил из гостиной в спальню и теперь мог сидеть с книгой перед окном с видом на реку. Занимался я до девяти, а потом читал что хотел. Начал с Конана Дойла, но что-то мешало наслаждаться детективной интригой — не иначе то был суровый дух кальвинизма, царивший в колледже. Оставив в покое Шерлока Холмса, я принялся за романы Джордж Элиот. Она подвела меня к немецкой философии — Гегелю и Фейербаху. Чем дальше, тем серьезнее: я перешел к трудам по психологии. Узнал про Эдуарда фон Гартмана и невролога Морица Бенедикта, открыл для себя Фрейда, основные фрагменты ранних трудов которого были напечатаны лет за двадцать, а то и за тридцать до публикации в окончательном виде. Надо было только знать, где их искать.
Мэри Миллер навещала меня часто, прибегала и убегала в часы, когда служители кирки не могли ее застукать. Пустовавший ящик в комоде наполнился нижними юбками, джемперами, поясами для чулок. Ночную рубашку мы прятали под матрас, чтобы не попалась на глаза уборщице, свежее нижнее белье Мэри приносила с собой, снятое забирала. Когда покупала пиво или фрукты, пустые бутылки и пакеты тоже уносила. Однажды на лестнице раздались подозрительно медленные шаги; надо было срочно спасаться — вдруг решил нагрянуть привратник. На лестничной площадке имелся люк, через который можно было выбраться на чердак, откуда через второй люк попасть на плоскую часть свинцовой крыши, на значительном расстоянии от края. Весной мы затащили на эту площадку несколько цветочных горшков. В солнечном углу я поставил раскрытый мешок с землей и посадил помидоры. Плоды до окончания семестра налиться не успели, но от листьев шел терпкий помидорный дух. Со временем мы так осмелели, что зазывали гостей на вечерние пикники на крыше. Мэри — девиц из своего колледжа, я — наших ребят. Норман Гроут приходил часто, садился на коврик скрестив ноги и начинал рассказывать скабрезные анекдоты или пересказывать сплетни, которым никто не верил.
Это был наш собственный мирок в монастырских стенах колледжа. Мэри ничего от меня не требовала, только чтобы я не был занудой.
Я уже говорил, что при первой встрече меня поразила завершенность линий ее полностью сформировавшейся фигуры, крепких точеных бедер и рук. Но груди были не как у зрелой женщины, они оказались совсем юными, с едва проступающими сосками, будто из нежнейшего светло-розового шелка. Когда я к ним припадал, Мэри обхватывала мою голову ладонями. Единственная дочь заводского инженера и медсестры, выросшая в глубокой провинции, не отличалась скромностью. Откуда только что бралось?
Любовные интрижки теперь всегда ассоциируются у меня с легкими летними платьями, бутылочным пивом, ненасытными слияниями и ужином на крыше, и все это под еле слышный лепет реки. Лучше, по-моему, и не бывает.
На втором курсе я познакомился с Дональдом Сидвеллом, он изучал теологию. Этот очкарик был натурой увлекающейся. Обожал скачки, барочную музыку, Францию, крикет и старые машины. Он так азартно обо всем этом рассказывал, что я слушал с открытым ртом. В ближайшей деревне у него имелся гараж с подержанной легковушкой.
Мы ездили туда по субботам на велосипедах, потом обедали в пабе. Порой дружок мой по полдня не вылезал из-под капота машины, пытаясь «немного ее взбодрить», как он это называл. В награду за мое терпение Дональд сопровождал меня в конюшню, где я убирался по воскресеньям, и учился ездить верхом. О его семье и домашних обстоятельствах я мало что знал. Нас связывал интерес к предметам более возвышенным. Мы пили пиво в моей каморке; я рассуждал о механизмах действия нервной системы. О том, почему нельзя считать, что «ум» существует вне вещества, из которого состоит мозг. В ответ Дональд выдвигал возражения с философскими обоснованиями. Он атаковал меня цитатами из Декарта, Юма и Локка. Но в конце концов я брал реванш, приводя пример из жизни, связанный, например, с недавним воскресным происшествием, когда лошадь под Дональдом вдруг понесла и от страха у него вспотели ладони. Убойный аргумент: мокрая ладонь показывает, как абсолютно абстрактная эмоция — страх — при содействии нервной системы и экзокринных желез превращается в воду. Стало быть, идея о том, что мы состоим из чего-то еще, кроме материи, абсурдна.
Подобные дискуссии часто вспыхивали после докладов старшекурсников, но нас на столь важные сборища пока не допускали. И ладно. Зато он мне одному рассказывал об особенностях французской культуры. По мнению Дональда, Франция представляла собой искусственное государство и если бы она распалась на несколько географических единиц, ее жители стали бы счастливее. Он располагал уникальными сведениями о том, что на французском в этой стране почти никто не говорит. Согласно последним данным, относящимся к 1900 году, только 28 процентов жителей Франции общались на французском языке, остальные использовали бретонский, окситанский или лангедокский, не считая еще сотен диалектов и говоров. Прав он был или нет, судить не берусь, но мне нравилась его въедливость, погруженность в материал.
Мы часто ходили на музыкальные вечера (туда, где разрешалось курить) в другие колледжи. Наши доморощенные концерты проходили в «малом зале», отделанном деревянными панелями. Дональд тоже иногда там выступал с шуточными песнями собственного сочинения, аккомпанируя себе на фортепиано. Я здорово привязался к этому парню, почти так же, как к Мэри Миллер. С ним в чем-то было даже проще. Никаких жертв и обязательств, чисто мужская дружба. Отношения с Мэри становились не такими уж безоблачными, неизбежно напрашивались удручающие вопросы насчет будущего, что нужно мне от нее, что ей от меня. В общем, Мэри ночевала у меня все реже. Я не очень-то этому и огорчался.
Увлекательное чтение было прервано стуком в дверь. Полетта.
— Доктор Перейра ждет вас, — сообщила она и, тут же развернувшись, ушла. Я посмотрел на часы. Было без двадцати восемь.
Хозяин ждал меня в библиотеке. Он был в рубашке с расстегнутым воротом и парусиновых туфлях. Я был слегка раздосадован. Костюм и любимый фиолетовый галстук оказались некстати.
Глава четвертая
— Сегодня на море я встретил молодую особу, — сказал я Перейре за ужином.
— Наверное, это Селин. Она часто приходит поплавать в calanque.
— Кто она такая?
— Внучка моей бывшей пациентки. Своеобычная девушка, верно?
— Верно. А чем она занимается?
— Ухаживает за бабушкой. В порту иногда перепадают случайные заработки. Помогает здесь, в доме, когда у меня собираются гости.
— Давно вы тут живете?
— Приехал в двадцатых. В те годы про остров еще почти никто не знал. Тогда и в Канны-то иностранцы только-только начали приезжать, я имею в виду, британцы. А здесь была прямо райская благодать: всего несколько беленых домиков в порту, населенных горсткой чудаков. Богемная публика, нудисты всякие, искатели приключений. Ведь климат тут мягкий, просто сказочный. Ну что еще тогда было? Теннисный корт, хороший рыбный ресторан и две-три семейные гостиницы. Все это выглядело как на фотографиях Лартига, та же атмосфера.