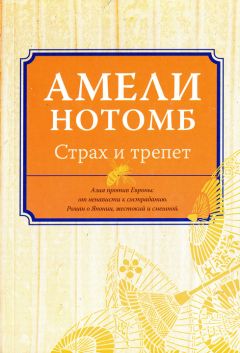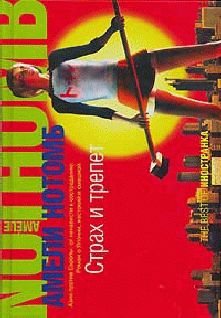Гигиена убийцы - Нотомб Амели
У толстяка отвисла челюсть на целых сорок секунд.
– Браво. Мне нравятся люди, умеющие так беззастенчиво лгать.
– Сожалею, но это правда. Я читала все ваши книги.
– Под дулом пистолета?
– По доброй воле – нет, вернее сказать, по собственному желанию.
– Не может быть. Если бы вы читали все мои книги, то были бы не такой.
– Какая же я, по-вашему?
– По-моему – заурядная пустая бабенка.
– Вы беретесь утверждать, будто видите насквозь, что происходит в голове у заурядной пустой бабенки?
– Как, в ней что-то происходит, в вашей голове? Tota mulier in utero.[5]
– Увы, я вас не животом читала. Так что не обессудьте, придется вам переварить мое мнение.
– Валяйте, посмотрим, что вы гордо именуете «мнением».
– Для начала отвечу на ваш первый вопрос: мне ни секунды не было скучно за чтением ваших двадцати двух романов.
– Странное дело. Я-то думал, что это смертная скука – читать, не понимая.
– А писать, не понимая, – скучно?
– Вы намекаете, что я не понимаю моих собственных книг?
– Я бы сказала скорее, что вы любитель пудрить мозги. В этом отчасти состоит прелесть ваших книг. Читая вас, я чувствовала себя как на качелях: то пассажи, исполненные глубокого смысла, то вдруг абсолютный блеф – абсолютный потому, что в заблуждение вводится не только читатель, но и автор. Я представляю, как вы потирали руки, выдавая эти отступления, блистательно пустые и напыщенно бредовые, эту видимость глубокомыслия и значимости. Для вас, подлинного виртуоза, так морочить читателя, должно быть, – сущее удовольствие.
– Что вы несете?
– И для меня это было сущее удовольствие. Обнаружить такое в творчестве писателя, на словах объявляющего войну криводушию, – прелестно! Это, пожалуй, раздражало бы, будь ваше криводушие равномерно распределено по страницам. Но для таких скачков от чистосердечия к криводушию надо быть гением обмана!
– И вы полагаете, что способны отличить одно от другого, самонадеянная девчонка?
– Легко! Всякий раз, когда я хохотала над очередным пассажем, мне было ясно: вот он, блеф. Должна признать, ловко придумано: побивать подобное подобным, криводушие криводушием, этаким интеллектуальным терроризмом, перещеголять противника в лицедействе – блестящая тактика. Даже, пожалуй, чересчур: уж слишком тонко для такого примитивного врага. Надо ли вам объяснять, что макиавеллизм зачастую бьет мимо цели, а простая дубинка надежнее хитроумного механизма.
– Я обманщик, говорите, – но куда мне до вас с вашим утверждением, будто вы прочли все мои книги.
– Да, прочла, все, что было издано. Проэкзаменуйте меня, если не верите.
– Вот-вот, вроде викторины для тентенопоклонников:[6]«Назовите номер красного „вольво“ в „Деле Подсолнечника“», да? Смешно. Нет уж, я не собираюсь унижать свое творчество подобными приемчиками.
– Как же мне тогда вас убедить?
– Никак. Все равно не убедите.
– В таком случае мне нечего терять.
– А вам с самого начала нечего терять со мной. Вы – женщина, и этим все сказано.
– Кстати, я составила небольшой обзор женских образов в вашем творчестве.
– Я так и знал. Чего еще от вас ждать.
– Вы сказали, что в вашем мировоззрении женщина не существует. Я могу только подивиться, что человек с подобными взглядами создал так много женщин на бумаге. Я не стану подробно рассматривать всех, но в ваших книгах я насчитала порядка сорока шести женских образов.
– Не понимаю, что это доказывает.
– Это доказывает, что женщина в вашем мировоззрении существует: вот вам первое противоречие. И вы увидите – не последнее.
– О! Мадемуазель ловит меня на противоречиях! Да будет вам известно, госпожа учительница, что Претекстат Тах возвел противоречие в ранг высокого искусства. Невозможно вообразить ничего более изящного, более утонченного, более острого и выбивающего из равновесия, чем моя система самопротиворечия. И надо же – является какая-то мымра, которой только очков не хватает, и сообщает мне с победоносным видом, что наковыряла пару-тройку досадных противоречий в моем творчестве. Не замечательно ли иметь такого дотошного читателя?
– Я не говорила, что это противоречие досадное.
– Не говорили, но я же вижу, что вы так думаете.
– Мне лучше знать, что я думаю.
– Это еще вопрос.
– В данном случае я нашла это противоречие небезынтересным.
– Силы небесные.
– Итак, я сказала, сорок шесть женских образов.
– Чтобы ваша цифирь представляла хоть какой-то интерес, надо было подсчитать и мужские, детка.
– Я это сделала.
– Какая сообразительность.
– Сто шестьдесят три мужских образа.
– Ах вы бедняжка, мне вас так жаль, иначе я не преминул бы посмеяться над столь вопиющей диспропорцией.
– Жалость – чувство предосудительное.
– О! Она и Цвейга читала! Какая образованная девушка! Видите ли, дражайшая, мужланам вроде меня ближе Монтерлан, которого вы вряд ли осилили. Мне жаль женщин, поэтому я их ненавижу, – и наоборот.
– Коль скоро вы питаете такие здоровые чувства к нашему полу, объясните мне, зачем вам понадобилось создавать эти сорок шесть женских образов.
– Ни за что – это объясните мне вы. Такой забавы я упустить не могу.
– Не мне вам объяснять ваше творчество. Но поделиться кое-какими наблюдениями могу.
– Сделайте одолжение, поделитесь.
– Вот вам все скопом. У вас есть книги без женщин: «Апология диспепсии», разумеется…
– Почему «разумеется»?
– Потому что это роман вообще без героев, а то вы не знаете.
– Так вы и правда читали мои книги, хотя вряд ли все.
– Женщин нет также в романах «Растворитель», «Перлы для побоища», «Будда в стакане воды», «Преступление против уродства», «Все идут ко дну», «Смерть и ни слова больше» и даже – это самое удивительное – «Покер, женщина и другие».
– Восхититесь, как это тонко с моей стороны.
– Итого восемь романов без женщин. Двадцать два минус восемь – четырнадцать. Остается четырнадцать романов, в которых выведены сорок шесть женских образов.
– Хорошее дело наука.
– Распределены они в этих четырнадцати книгах, разумеется, неравномерно.
– Почему опять «разумеется»? Я слышать не могу, как вы бросаетесь этими «разумеется» применительно к моим книгам. Вы хотите сказать, что мое творчество так предсказуемо и просто устроено?
– Именно потому, что ваше творчество непредсказуемо, я и употребляю слово «разумеется».
– Только не надо софизмов, пожалуйста.
– Абсолютный рекорд по женским образам удерживает «Поруганная честь между мировыми войнами» – в этом романе действуют двадцать три женщины.
– Это легко объяснимо.
– Сорок шесть минус двадцать три – двадцать три. Остается тринадцать романов и двадцать три женщины.
– Статистика – великая вещь.
– Четыре ваших романа моногинны – позволю себе столь несуразный неологизм.
– А почему, собственно, вы себе позволяете?
– Это «Молитва со взломом», «Сауна и другие радости плоти», «Проза эпиляции» и «Приказать недолго жить».
– Что же мы имеем в остатке?
– Девять романов и девятнадцать женщин.
– Как насчет распределения?
– «Гадкие люди» – три женщины. Все остальные романы, с позволения сказать, дигинны: «Безболезненная асфиксия», «Интимный беспорядок», «Urbi et Orbi», «Рабыни оазиса», «Мембраны», «Три будуара», «Сопутствующая благодать» – одного не хватает.
– Нет, вы назвали все.
– Вы так думаете?
– Да, урок вы выучили на «отлично».
– Я уверена, что пропустила один. Давайте повторим весь список с самого начала.
– Ох, нет, только не это!
– Придется, иначе вся моя статистика пойдет насмарку.
– Вам ничего за это не будет, обещаю.
– Что ж, ладно, повторю. У вас найдется листок бумаги и карандаш?
– Я же сказал вам: не надо! Вы меня достали этим перечислением!
– Так избавьте меня от этой необходимости – скажите недостающее название.
– Да мне-то откуда знать? Я забыл половину из тех, что вы перечислили.