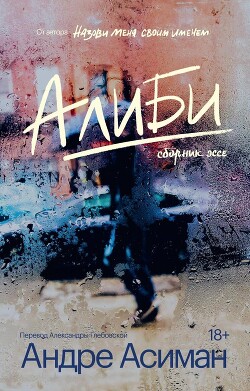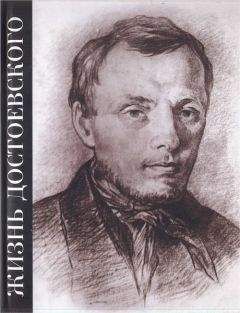Восемь белых ночей - Асиман Андре
– Люблю снег, – выговорила она наконец.
Я молча уставился на нее.
Собирался спросить почему.
А потом решил сказать, что завидую людям, которые могут сказать, что любят снег, не ощущая стеснения и неловкости, – это как писать стихи в рифму. Но это показалось неуместно надуманным. Я решил поискать другую реплику.
И пока я вновь мучительно соображал, как заполнить паузу – чем-то, чем угодно, – до меня дошло, что, если она говорит, что любит снег, значит, скорее всего, и ей повисшее между нами молчание совершенно невыносимо и она решила, что придушить простую мысль – большее зверство, чем высказать ее вслух.
– Я тоже люблю, – сказал я, радуясь, что она проложила путь к простоте. – Хотя и не знаю почему.
– Хотя и не знаю почему.
Она вновь пытается сказать, что мысли наши движутся параллельным курсом? Или просто рассеянно повторяет, уничижая, бессмысленную фразу, которую я выговорил, чтобы усложнить предельно простую вещь?
Все равно мне понравилось, как она едва ли не выдохнула: «Хотя и не знаю почему». Надо было нагнуться к ней и обвить рукой ее талию. Дозволительно ли нагнуться к Кларе, обвить рукой ее талию, коснуться губами ее губ?
Несколько лет назад я бы поцеловал ее без колебаний.
Теперь, в двадцать восемь, уже не знаю.
Кто-то распахнул балконную дверь и шагнул к нам.
– Нашлась, – проговорил он. А потом, сообразив задним числом: – Помешал вам? – спросил он – и глаза, как мне показалось, блеснули озорством. – Так вот где ты пряталась, – произнес дородный мужчина, нагнулся и поцеловал Клару. – А мне сказали, ты еще не пришла.
– Пришла, Ролло, мы просто вышли меня покурить, – сказала она другим голосом, с налетом кичливости – его прежде не было. Она жестом велела пришедшему закрыть стеклянную дверь. – А то она бурчит.
– Да с тебя как с гуся вода, – хрюкнул он.
– Не хватало мне сейчас еще бурчания Гретхен.
– А с чего Гретхен будет бурчать? – осведомился я, не столько из любопытства, сколько в попытке вклиниться в ее языковой строй и сохранить прежний ореол близости.
– Она терпеть не может, когда я курю в окрестностях ее младенца. Чертова мать, ей бы только бурчать…
– А где очаровательная детка? – спросил я, пытаясь изображать плутоватость, тем более что никаких младенцев поблизости не видел. Стеб над Гретхен явно был дежурной шуткой в мире Клары, и мне хотелось показать, что я вполне способен внести в него собственный вклад – если так выглядит пропуск в этот мир.
– Ее младенец – подросток-астматик, которому, возможно, хватило воспитания с тобой поздороваться, когда ты пришел, – объявил дородный, решительно поставив меня на место.
– Мелкий хорек, – добавила ради меня Клара.
– Мелкий чего?
– Нев-важно.
Дородный обхватил ее за плечи в знак того, что прощает.
– А ты не замерзла, Кларушка?
– Нет.
Она повернулась ко мне.
– Ой, а ты-то, наверное, замерз.
То ли она силой втаскивает меня в свой мир, то ли это такой способ сделать вид, что между нами и раньше существовала дружба?
На самом деле в ответе она не нуждалась. Я и не стал отвечать. Вместо этого мы все трое, как по договоренности, оперлись на перила и уставились на бескрайний уходящий к югу простор бело-алых небес над Манхэттеном.
– А вот представьте себе, – наконец произнесла Клара, – что все электрические фонари на Риверсайд-драйв вдруг превратились обратно в газовые рожки – мы тогда смогли бы отключить этот век и выбрать другой, любой. Риверсайд в газовом свете выглядела бы такой заколдованной, что мы все решили бы, что мы в другой эпохе.
Слова трезвомыслящей любительницы вечеринок, которая не любит вечеринки, но ходит на вечеринки, однако при этом томится здесь и хочет оказаться в другом месте, в иной эпохе.
– Или в другом городе, – подхватил я.
– В любом городе, кроме этого, Клара, в любом кроме. Достал меня Нью-Йорк… – начал было Ролло.
– При твоем темпе иначе и быть не может. Ты бы замедлился и залег на дно. Может, нам всем стоит залечь на дно? – Она внезапно повернулась ко мне. – Это способно творить чудеса. Посмотри на нас, – произнесла она, как будто это «нас» существовало, – мы оба залегли на самое дно и являем собой воплощенное блаженство, верно?
– Клара залегла на дно? Так я и поверил. Ты всегда водишь людей за нос, Клара?
– Сегодня нет. Я сейчас именно такая, какой сегодня хочу быть. И, может быть, я хочу быть именно здесь, на этом балконе на Верхнем Вест-Сайде, на этой стороне Атлантики. Отсюда видно всю Вселенную с ее микроскопическими вздорными гуманоидами, старательно шевелящими всеми частями тела. С моего нынешнего места, Ролло, ты бы увидел все, в том числе и Нью-Джерси.
Толстяк тихо фыркнул.
– Эта нимформация, – объявил он, обратив ко мне глаза навыкате, – представляет собой беспардонную нападку на Гретхен, урожденную Теанек.
– А по правую руку, дам-мы и гыспода, – продолжала Клара, держа в руке воображаемый микрофон и подражая экскурсоводу, – находится главная достопримечательность вида из окон Теанек, храм Бней-Брит, а рядом с ним – храм Богоматери Неплодоносящей.
– Ишь, какая ты нынче колючая.
– Хватит, Ролло, не уподобляйся Шукоффу.
– Такой злюкой на дно не заляжешь.
– Я сказала – залечь на дно, не впасть в кому. Залечь на дно – значит многое переосмыслить, сохранить в душе, двигаться к переменам мелкими шажками, а не бросаться очертя голову в каждую затею, которая нам приспичила.
Короткая пауза.
– Туше, Клара, туше. Я забрел в долину скорпионов и наступил на эрегированный хвост самой злобной их матки.
– Я ничего такого не имела в виду, Ролло. Ты прекрасно знаешь, что я имела в виду. Я жалю, но без яда… Зима, – добавила она под последнюю затяжку. – Мы ведь все любим зиму и снег.
Непонятно было, к кому она обращается, к нему, или ко мне, или к обоим, или ни к кому, потому что было нечто настолько мечтательное и отрешенное в том, как она оборвала саму себя, подчеркнув для нас, что обрывает, что могла бы с тем же успехом обращаться к Манхэттену, к зиме, к самой ночи, к полупустому бокалу с «Кровавой Мэри», что стоял перед ней на перилах – призрак моего отца сделал из него крошечный глоток, прежде чем сгинуть с балкона. Хотелось думать, что она обращается только ко мне или к той части моей души, что сохранила ту же податливость, что и снег, скопившийся на перилах, – к той, в которую она погрузила свои пальцы.
Поглядев вдаль и вновь проследив за движением прожектора, я не сдержался.
– Однажды в полночь Вечность видел я, – произнес я наконец.
– Ты однажды в полночь видел вечность?
– Генри Воэн, – пояснил я, едва не корчась от смущения.
Она, похоже, порылась в памяти.
– Первый раз слышу.
– Его почти никто не знает, – сказал я.
И тут я услышал, как она произносит слова, которые, как мне показалось, пришли из прошлого, лет десять назад:
Однажды в полночь Вечность видел я —
Она Кольцом сверкала, блеск лия,
Бескрайний свет струя[7].
– Почти никто не знает? – Она повторила мои слова с торжествующей насмешкой.
– Похоже, я ошибался, – ответил я, пытаясь показать, что крепко усвоил урок. Счастлив я был безмерно.
– Скажи спасибо швейцарскому лицею под руководством мадам Дальмедиго. – Успокоительная ласка. И, прежде чем я успел как-то отреагировать: – Ой, погляди! – Она указала на полную луну. – Полналуна, одналуна, спокойной ночи, луна, ты там чего, луна, сегодня тут, завтра в хлам, моя луна, моя всеобщая луна, спокойной ночи, луна, спокойной ночи, дамы, спокойной ночи, луночка-луна.
– Чепуховина, – прокомментировал Ролло.
– Сам ты чепуховина. Полналуна, супмисоилисалат, лунобаклажан, баснословно, словнобасно, поражена твоейкрасойлуна.