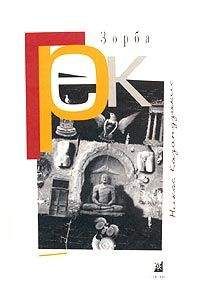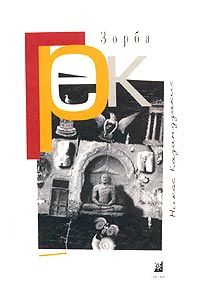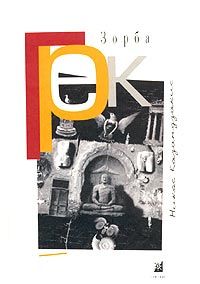Я, грек Зорба (Невероятные похождения Алексиса Зорбаса) - Казандзакис Никос
— Моя Бубулина, прошу тебя, не стучи так, не стучи!
— Убери лапы! — закудахтала наша добрая дама. — За кого ты меня принимаешь, приятель? И она бросила на него томный взгляд.
— На свете есть Господь Бог, — сказал старый хитрец, — не печалься, моя Бубулина. Он все видит, не бойся!
Старая русалка с кислым видом подняла к небу свои маленькие голубые глаза и увидела уснувшего в клетке зеленого попугая.
— Мой Канаваро, мой маленький Канаваро! — ворковала она влюбленно.
Попугай, узнав ее голос, открыл глаза, вцепился в прутья клетки и начал кричать хриплым голосом тонущего человека:
— Канаваро! Канаваро!
— Вот оно! — крикнул Зорба, снова похлопав рукой по столь послужившим коленям, как бы желая завладеть ими.
Старая певица завертелась на своем стуле и вновь раскрыла свой маленький сморщенный рот:
— Я тоже храбро сражалась в первых рядах… но потом для меня пришли плохие деньки. Крит был освобожден, флоты получили приказ уходить «А я, что будет со мной, — кричала я, хватаясь за четыре бороды. — На кого вы меня бросаете? Я привыкла к великолепию, я привыкла к шампанскому, жареным курам, красивым маленьким матросам, которые отдавали мне честь. Что же со мной, четырежды вдовой, будет, господа адмиралы?» Они только смеялись. Ах! Эти мужчины! Они надавали мне английских фунтов, итальянских лир, рублей и наполеонов. Я их насовала в чулки, за корсаж и в свои туфельки. В последний вечер я плакала и кричала, тогда адмиралы сжалились надо мной. Они наполнили ванну шампанским и погрузили меня туда — все было весьма, как видите, фамильярно, ну, а затем они выпили все шампанское в мою честь и это их опьянило. Потом они погасили свет.
Утром я чувствовала, что все запахи перемешались: фиалка, одеколон, мускус и амбра. Четыре великих державы — Англия, Франция, Россия, Италия — я их держала здесь, вот здесь, на коленях и я ласкала их, вот так!
Мадам Гортензия раскинула свои маленькие жирные ручки и стала размахивать ими так, словно подкидывала на коленях ребенка.
— Как только рассвело, они стали стрелять из пушек, я не вру, могу поклясться в этом своим счастьем, и белая шлюпка с двенадцатью гребцами подошла за мной, чтобы высадить на берег. Она взяла свой маленький платок и разрыдалась.
— Моя Бубулина, — воскликнул Зорба, воспламеняясь, — закрой глаза… Закрой глаза, мое сокровище. Это я, Канаваро!
— Убери лапы, тебе говорят! — вновь кокетливо взвизгнула наша добрая дама. — Посмотрите на него! Где же золотые эполеты, треуголка, надушенная борода? Ах! Ах! — Она мягко сжала руку Зорбы и снова зарыдала. Посветлело. На минуту мы замолчали. Море, ставшее наконец мирным и нежным, вздыхало за камышами. Ветер упал, солнце зашло. Два ночных ворона пролетели над нами, их крылья просвистели так, будто кто-то рвал тонкую шелковую ткань, например, шелковую рубашку какой-нибудь певички.
Опустились сумерки, как бы присыпав двор золотистой пудрой. Взлохмаченные волосы мадам Гортензии воспламенились и взметнулись от порыва вечернего бриза, казалось, она хотела взлететь, чтобы поджечь соседние головы.
Ее наполовину раскрытая грудь, раздвинутые жирные и потерявшие от старости форму колени, морщины на шее, дырявые сандалеты — все покрылось позолотой. Наша старая русалка задрожала. Полузакрыв маленькие глазки, покрасневшие от слез и вина, она смотрела то на меня, то на Зорбу, который пересохшими губами прилип к ее груди. В эту минуту стало совсем темно. Она вопросительно смотрела на нас двоих, силясь распознать, кто же из нас Канаваро.
— Моя Бубулина, — страстно ворковал Зорба, прижимаясь к ней коленом. — Нет на свете ни Бога ни дьявола, не бойся. Подними свою маленькую голову, обопрись щекой на ладонь и спой нам. Да здравствует жизнь и да сгинет смерть…
Зорба разгорелся. В то время как левая его рука подкручивала усы, правая прогуливалась по захмелевшей певице. Он говорил, задыхаясь, весь охваченный истомой. Разумеется, для него это была не до предела размалеванная старая мумия, нет, он видел перед собой всю «породу самок», как он имел обыкновение называть женщин. Индивидуальность исчезала, лицо становилось безличным. Молодое или дряхлое, красивое или безобразное, оно воплощало теперь образ. Позади каждой женщины поднималось строгое, благородное, полное тайны лицо Афродиты.
Именно это лицо видел Зорба, с ним он говорил, его он желал. Мадам Гортензия была лишь мимолетной и призрачной маской, которую срывал Зорба, чтобы поцеловать бессмертные уста.
— Распрями свою белоснежную шею, мое сокровище, — умолял он сдавленным голосом, — спой нам свою песню!
Старая певица оперлась щекой на полную, потрескавшуюся от стирки руку, взгляд ее сделался томным. Она громко вскрикнула, плаксиво и дико, и в тысячный раз начала свою любимую песню, глядя на Зорбу — она уже сделала свой выбор — млеющими, почти угасшими глазами:
Зачем ты повстречался мне
На жизненном пути.
Зорба вскочил и побежал за своей сантури, затем, усевшись по-турецки прямо на землю, стал настраивать инструмент; он прижал его к коленям и погладил большой ладонью.
— Ойе! Ойе! — взревел он. — Возьми нож и перережь мне глотку, моя Бубулина!
Когда ночь окончательно опустилась на землю, зажигая в небе первые звезды, разнесся пленительный и чуткий голос сантури, мадам Гортензия, напичканная курицей, рисом и жареным миндалем, утомленная вином, тяжело склонила голову на плечо Зорбы и вздохнула. Она легонько потерлась о его костлявое плечо, зевнула и вздохнула еще раз.
Зорба сделал мне знак и, понизив голос, шепнул:
— У нее пожар в штанишках, иди к себе, хозяин.
4
Занимался день, я открыл глаза и увидел перед собой Зорбу, сидящего поджав ноги на самом краю своей постели; он курил весь во власти глубоких размышлений, уставившись в слуховое окно, окрашенное первыми отблесками дня в молочно-белый цвет. Глаза у него опухли, тощая длинная шея вытянулась, как у хищной птицы.
Накануне я ушел довольно рано, оставив его наедине со старой соблазнительницей.
— Я ухожу, — сказал я, — как следует повеселись, Зорба, будь смелее, дружище!
— До свидания, хозяин, — ответил Зорба. — Оставь нас разбираться с нашими делами, доброй тебе ночи и крепкого сна!
Вероятно, они поладили, ибо сквозь сон я слышал приглушенное воркование, а в какой-то момент соседняя бкомната начала сотрясаться. Затем я вновь погрузился в сон. Далеко заполночь вошел босой Зорба и, стараясь не разбудить меня, растянулся на своей кровати.
А сейчас, ранним утром, взгляд его устремленных в светлую даль глаз еще не зажегся. Казалось, он находился в состоянии легкого оцепенения; его сознание все еще оставалось в плену сна, спокойно и безучастно предавался он покою в густом, как мед, полумраке. Вселенная, земли, воды, люди, мысли будто плыли к каким-то дальним морям, и Зорба плыл вместе с ними, полный счастья, не сопротивляясь и ни о чем не спрашивая; крики петухов, ослов, визг свиней и голоса людей сливались воедино. Мне хотелось выпрыгнуть из постели и закричать: «Эй, Зорба, сегодня нам предстоят большие дела!». Но и я испытывал огромное блаженство, безмятежно отдаваясь медленному рождению утренней зари. В эти волшебные минуты вся жизнь кажется как бы невесомой. Словно мягкое изменчивое облако, земля, сотканная из бесплотной сути, постепенно истаивает от легкого дуновения ветерка.
Глядя на курившего Зорбу, мне тоже захотелось покурить, я протянул руку и взял свою трубку. С волнением смотрел я на нее. Это была большая и дорогая английская трубка, подарок моего друга — того, у которого были серо-зеленые глаза и руки с тонкими пальцами, он уже долгие годы находился за границей, где-то в тропиках. Окончив учебу, он в тот же вечер отправлялся в Грецию. «Брось сигарету, — сказал он мне, — ты ее зажигаешь, выкуриваешь наполовину и бросаешь, как проститутку. Это позор! Возьми в жены трубку, уж она-то тебе станет верной подругой.
Когда ты будешь возвращаться домой, она всегда будет ждать тебя там. Ты раскуришь ее, посмотришь на поднимающийся дым и вспомнишь обо мне!»