Грант Матевосян - Ташкент
Кладовщик, хранитель ржи и смешанных кормов, из нашей тутошней глухомани его и не видать, но, знать, с большими правами человек — молча пригнал как-то пять своих баранов: дескать, пасите. Над рожью, всякими кормами у него, значит, тайное право есть. Наши полувласти вечно торчат перед конторой, кладовщик с ними в ряд не становится, но втайне он из них, и это известно выстроившимся перед конторой властям и всему народу, и нам тоже, и главное, самому кладовщику — пять своих овец пригнал, ни слова не говоря, безо всякой просьбы примешал к отаре и ушёл. Что же, будет проходить по селу, увидит мать Арьяла, может, вспомнит, подкинет горстку ржи. Для какой особой цели он этих баранов держит, не знаем, но это его товар, как привёл, так с тех пор мы за ними и ходим. Ещё пять овец, значит, кладовщиковы.
Одну мы сами от души, навеселе немножечко были, одну мы сами своим языком обещали поэту Арменаку Мнацаканяпу: сказали ему, пусть радио иногда с твоего голоса про наши горы говорит, остальное — не твоя забота, — когда ни придёшь, знай, тебя барашек дожидается. Ежели он про эти наши слова помнит, что ж, мы готовы, ежели забыл, то вон у отца его двор полон всякого добра, вот и пользуется пусть, тем более что дядька Симон чужую работу на себя возьмёт, а сам своё на другого не взвалит. Так что одна овца под вопросом.
На своём красногривом Ростом Казарян пригнал отобранных на свой лад семерых барашков, безошибочно, то есть по-ростомски отобранных, в ачаркутские наши хлева, что у покосов, пригнал, широко и приятно, по-ростомски улыбнулся и посмотрел с какой-то, что ли, зависимой любовью, мол, уважаем мы его или не уважаем, а он нас всё равно ещё как уважает. Ну, мы ему, конечно: дескать, какие могут быть разговоры, неудобно даже, кто же, как не мы… Машину, сказал, должен купить, денег если не хватит, овцы пойдут на рынок, а хватит — останутся здесь. Семь барашков, значит, вроде как бы нетто-брутто. С красногривого своего сошёл, откинул поводья, для нас, значит, два кило сахару и две пачки чаю принёс, зачерпнул полную горсть сахара — поднёс своему красногривому, потом лошадь в Нав-урт отпустил — к лошадям Авага и Симона, а семерых барашков оставил на наше попечение. Для нас, сказали уже, сахару и чаю принёс.
У проклятой беззадой стервы тоже пятнадцать — двадцать голов имеется, то есть не у неё самой, а у трёх её сыновей — у самой прав на Тэвана фактически никаких нет, старая уже, да и слава за ней особая. Её сын — Старший Рыжий ударил его — Тэван в этом самом костюме был — сшиб с ног, цыц, мол, не смей на село являться. Причина? Не посоветовавшись с семьёй брата, привёл в дом вторую жену, по дороге молодая в дсехском сельпо купила Тэвану красные ботинки и костюм, вырядила Тэвана во всё это, презрела нашу стерву, ну а наша стерва поинтересовалась там-сям и выяснила, что в Цатере эта весьма сомнительного поведения была, юбка на ней не знаем каким бригадиром куплена, в Москве или в Ереване совещание доярок было, и в гостинице они, говорят, очень неподобающе себя вели. Старший Рыжий по старой ещё вражде ударил его и сказал: там у меня во дворе овцы, возьмёшь с собой в горы. Десять овец Старшего Рыжего, пять Среднего Чёрного, самый жалкий из них Младший Рыжий — штуки три всего в отаре его. Младшего Рыжего жена и стерва не ладят. Младший Рыжий немножечко стесняется, старый трактор и женина зарплата школьной уборщицы угнетают его, Младший Рыжий у нас всего лишь три овцы имеет.
Но вообще-то всё это — ростомские барашки, и те, что принадлежат семейству Тэванова брата, и кладовщиковы, и Владимира Меликяна, и что по нашей доброй воле обещано нашему другу-поэту, и что было угнано-пригнано, и государственное — совхозное — всё это всегда под угрозой, потому что, если, скажем, Средний Чёрный прикатит сейчас на машине с запиской, мол, в селе гости и срочно нужно на шашлык, у нас разве будет время вспомнить, что тут чьё, и хватит разве воли отказаться — не даём, мол, — не хватит: как волк, забравшийся в отару, наугад, вслепую, выхватим одну — на, мол, вези.
А этот теперь, видите ли, — пусть, говорит, придут и сами за своей овцой ходят, сами пусть теряют, сами находят, сами огорчаются, сами радуются, мне, мол, в Ташкент надо, брат у меня там, еду за ним.
— Да кто же это сами, кто за нас наше дело сделает? — сказал (Арьял).
Глазами похлопал — а, сами… Ростом Казарян, что ли? Да нет, мол. Районное руководство? Я этого не говорил. Дети твоего родного брата? Старший Рыжий, Средний Чёрный или же Младший Рыжий — бедняга? Подумал-подумал — нет, мол. Полковник Меликян? Ну, этот вообще с пятнадцати лет в милиции — конечно же нет. Ну а кто же тогда? А, мол, — все. Засмеялся, сказал (Арьял).
— Айта… — сказал, — вот и остались снова я и ты, да ещё Софо, да новая невестка, младенец не в счёт, мал ещё, кто же ещё, никого ведь не осталось.
Разъярился, во рту и без того сухо было — рот пересох:
— Да ты сам, я тебя имел в виду, тебя!
Засмеялся, зашёлся в смехе (Арьял):
— Да ты что, что я тебе, казаровский Рубен, что ли, чтоб и в Галаче полевым сторожем быть, и в Цмакуте гумно охранять, да в придачу с жалобой в руках обивать пороги в центре, мол, к инвалиду войны плохо относятся, — как же мне сразу и за твоей овцой смотреть, и за своей, да ещё и траву успевать косить?
Оглох, не слышит, своё несёт:
— Болтался бог знает где, в автобусах себе разъезжал — мы брата в Ташкенте беспризорным оставить должны!
Буковая чаща от большого Ачаркута до Дсеха и Завода вся трещала: скорлупка раскалывалась и выбрасывала жёлудь. Большой урожай ожидался, такой же, наверное, как красной осенью сорок шестого: отбрасываешь ногой листву — сплошной красный жёлудь всюду лежит, на буковом масле и картошке народ тогда до самого августа продержался, пока в Касахе не поспел хлеб. Кто свинью держал, тому здорово повезло, а кто недальновидным оказался и не завёл свиньи, тому худо пришлось, и уж куда как худо пришлось тому пастуху, который подпустил овец к Ачаркуту: буковый жёлудь забивал кишки, и овца в два дня погибала. Оган нас предупреждал, одна из ста заповедей Огана была — овцу к буку не подпустить. Большой овитовец — Сандро Ватинян со стороны государства был в отставке, со стороны же собственных детей — нет. Только законных, от законной жены, Сандроевичей, у него пятеро, все пятеро — при должностях, приехали, посадили отца в машину и вместе со своими свиньями привезли на днях в Большой Ачаркут, до зимы Сандро Ватинян должен был соседствовать с ребятами, но невесткам никакой опасности не грозило — то поведение его осталось в далёком прошлом. С ним в машину положили сахару, хлеба, чаю, сказали, попивай потихонечку свой стариковский чай да за свиньями приглядывай, гляди, какая осень, самая пора для свиньи начинается. Землю расчистили, землянку временную выкопали на два месяца — осенью, кто ж не знает, воздух холодным делается, земля, наоборот, теплеет, и вода в роднике не такая уже студеная. Позвал-крикнул: «Чья это овца, куда прётся, где хозяин, эй?!»
Вот и видно, что три дня отсутствовал, — Арьял прислушался, по голосу не узнал, сказал:
— Айта, никак сосед у нас объявился? А я думаю, мы одни тут — я, ты да ещё, извиняюсь, невестки.
Так оно и было, от Кошакара до Зардакара, до самых Воскепарских гор — ни души, одни только Тэваны и Сандро, да ещё старый шалаш на ножках, бывшее жильё ахпатовца-выгонщика, притулился на склоне, вот уж десять лет пустует.
Засмеялся (Арьял), захрипел и не смог должным образом ответить этому уважаемому ввиду преклонных его лет, а также занимаемых в своё время должностей, плюс положение сыновей, а вообще-то просто: этому воистину уважаемому Большому Овитовцу. Если не считать его бывших должностей и того, что сыновья — шишки, то есть предположим, что все это не в счёт, один только его танец чего стоит — кто хоть раз видел, как он поводит тяжёлыми плечами, как перебирает мягкими сапогами… и эта мощь живота… да, кто хоть раз видел, как обхватывает его спину серебряный пояс, тот навеки чувствовал себя в долгу перед ним. Арьял крикнул — вроде бы ответил:
— Хозяина нет, в Ташкент ушёл, в Среднюю Азию, — и Другой сильно покраснел и поднял палец.
И если до этого ещё можно было всё в шутку обратить, то сейчас он даже на обед не желал остаться, еле-еле уговорили — видеть никого не хотел. И готового мяса сколько угодно было, и полтуши здоровенных на дереве висело, а он ничего в дорогу не хотел брать и распоряжений никаких не давал, что делать в его отсутствие. Просто — уходил. В конце концов Арьял преградил ему дорогу, обнял и попросил прощения, не обижайся, извини, поедим, потом пойдёшь. Говорил и еле сдерживался, чтобы не засмеяться.
В 1949 году, зимой сорок девятого, Большой Овитовец накрылся из-за женщины. То есть — что такое женщина, чтобы сбить с колёс такого руководящего человека, как Ватинян, — как гордый жеребец, как бульдозер всё перед собой расчищал, шёл напролом, райком и исполком по рангу были выше его, но перед ним стояли, просительно выгнув шею, поскольку среди этого зелёного голода хлеб и мясо были в его руках, и масло и сыр тоже, а у центра в руках была одна только печать… Овдовевшие осиротевшие женщины стояли на пути его следования, они видели его танец и втайне желали его, но эта была несбыточная мечта, поскольку Ватинян не из тех, кто свой взор руководящего работника обратит на женскую юбку… Настолько, что в положение их вошла и в своём благополучном дворце хозяйки перед своим руководящим мужем словечко за них замолвила — сама мадам председательша Ватиняи. Сказала: считай, что я слепая, тайком от меня иногда замечай их, что тебе стоит, жалко ведь, твоего села народ. А он ей — цыц, оборотень! До чего может дойти человеческая зависть — такой человек, как Сандро Ватинян, то ли в селе, то ли в центре, не знаем точно, а заимел сильного врага, тот его и подвёл под монастырь, подловил на грехе. Пока выяснили, пока суд да дело, председательское место уплыло, Сандро вполовину прямо похудел, пояс серебряный с него падать стал. Овит, правда, взроптал, мол, или Ватинян, или мы вообще колхоза не желаем… Но Сандро Ватинян был уже сломлен, махнул рукой, подался в Касах.
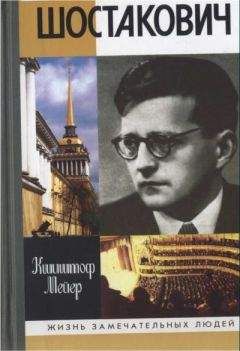

![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/uploads/posts/books/44925/44925.jpg)

