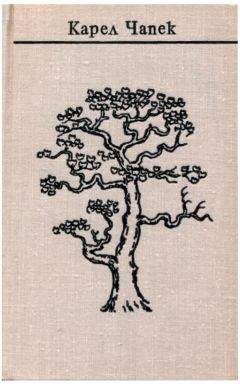Карел Чапек - Жизнь и творчество композитора Фолтына

Обзор книги Карел Чапек - Жизнь и творчество композитора Фолтына
Карел Чапек
Жизнь и творчество композитора Фолтына
ПРЕДИСЛОВИЕ
Роман «Жизнь и творчество композитора Фолтына» — последнее крупное произведение выдающегося чешского писателя Карела Чапека (1890–1938). Безвременная смерть прервала работу Чапека над этим романом, он был издан в незавершенном виде с послесловием жены писателя Ольги Шенпфлуговой, попытавшейся по рассказам мужа передать замысел произведения.
Чапек начал работать над своим последним романом осенью 1938 года, сразу же после Мюнхенского сговора, когда западные «союзники» предали Чехословакию. На первый взгляд, может показаться странным, что в месяцы, когда решалась судьба его родины, писатель как бы отходит от острой общественной проблематики, характерной для его антифашистских произведений («Война с саламандрами», «Мать», «Белая болезнь»). Но для Чапека создание этого романа вовсе не означало уход от современности: писатель затрагивает здесь важнейшие для него вопросы искусства и жизни.
В своем творчестве Чапек не раз задумывался о путях и возможностях познания истины. Эти проблемы стояли в центре его философской трилогии начала 30-х годов,(«Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь»). Последний роман Чапека органически связан с трилогией и по замыслу, и по форме, мы и здесь встречаем освещение одних и тех же событий с разных точек зрения. Но писатель, долгое время исходивший из релятивистского представления о «равноценности истин», полагавший, что каждый обладает «своей правдой», теперь, в конце жизни, отдав все силы борьбе с фашизмом, приходит к выводу, что человечеству нужны не только сочувствие и терпимость, но и бескомпромиссный суд.
В образе Бэды Фолтына Чапек безжалостно осудил все, что было ему отвратительно в людях: предательство в любви, в дружбе, в творчестве, ложь и подлость. При этом он имел в виду нечто большее, чем осуждение определенного типа человека: речь шла о моральных принципах, в те трагические дни особенно важных в жизни народа.
Вопросы искусства всегда были неотделимы для Чапека от нравственных и философских проблем, и в этом романе он высказывает свое эстетическое кредо. Писатель очень тонко раскрывает ту мысль, что под пышными лозунгами ультрамодерного искусства часто кроется самовлюбленность мещанина, видящего в творчестве только способ обожествления своего драгоценного «я» во всей его неприглядности. Беззастенчивый эгоист, лжец и ничтожество Фолтын стремится стать композитором или хотя бы прослыть им прежде всего потому, что видит в каждом художнике «сверхчеловека». Этическое содержание романа оказывается, таким образом, неотделимым от эстетических воззрений писателя. В романе нет персонажа, которому автор полностью Передоверил бы свою позитивную программу, но в размышлениях Яна Трояна звучат многие мысли, которые Чапек не раз высказывал в статьях, защищая подлинно peaлистическое, гуманное искусство, «…нет искусства вне добра и зла. Если вам кто-нибудь скажет это — не верьте ему» — эти слова Трояна были особенно близки Чапеку,
Чапек придавал исключительно большое значение роли культуры и искусства в борьбе против того обесчеловечивания человека, которое нес с собою фашизм. Такую роль могло выполнять только искусство высоко объективное и моральное, просветленное прогрессивной мыслью. Поэтому Чапек выступает против субъективизма в искусстве, против декадентского самообожествления художника. Он решительно осуждает в своем последнем произведении подобную этическую и мировоззренческую позицию художника, порочность которой стала для него ясна в годы, когда история потребовала от людей бескомпромиссных «да» или «нет».
И. БЕРНШТЕЙН
1
ОКРУЖНОЙ СУДЬЯ ШИМЕК
Бэду Фольтэна (тогда он, конечно, подписывал свои школьные тетради «Бедржих Фолтын») я узнал, когда мне было лет шестнадцать, В шестом классе меня перевели в ту гимназию, где учился Фолтын, и случай, который так часто изменяет судьбы молодых людей, посадил меня с Фолтыном за одну парту — изрезанную и скрипучую.
Шестиклассника Фолтына я помню очень хорошо, как будто видел его вчера: долговязый подросток с нежной кожей и густыми курчавыми золотисто-каштановыми волосами, на которые он явно возлагал немалые надежды; глаза у него были бледно-голубые, близорукие, навыкате, нос длинный, подбородок резко скошен; он не знал, куда девать свои большие, вечно потные руки, и вообще отличался той смущенной развинченностью, которая характерна для мальчиков в период созревания. Вид у него был такой, будто его оскорбили, а он отвечает на это молчаливым вызывающим презрением.
На первый взгляд он мне не очень понравился, кроме того, я сразу заметил, что в классе он одинок и сам высокомерно сторонится своих однокашников.
Я отнюдь не был блестящим учеником — зато с мрачным ожесточением вел борьбу со школой, с науками, с учителями; невеликий ростом, косолапый и невзрачный мальчишка, я был преисполнен боевого задора и решимости ни за что не поддаваться. Наверно поэтому я вышел из школы весь в шрамах, но зато победителем. Фолтыну пришлось хуже: он страстно мечтал отличиться, но всегда отчаянно терялся; дома он зубрил до умопомрачения, но когда его вызывал учитель, у него начинал трястись подбородок и он не мог вымолвить ни слова и только в волнении глотал слюну, так что кадык на его длинной, слабой шее судорожно дергался. «Садитесь, Фолтын, — цедил учитель почти с отвращением. — Было б лучше, если бы вы вместо своей шевелюры позаботились о математике!» Уничтоженный Фолтын садился на место, глотал слюну, и его водянистые голубые глаза наполнялись слезами; при этом губы его беспрестанно шевелились, словно лишь теперь он находил правильный ответ. Пытаясь скрыть готовые брызнуть слезы, он оскорблено хмурился и напускал на себя надменность, давая понять, что ему в высшей степени безразличны полученный кол, учитель, математика и школа вообще. Наши наставники терпеть его не могли и мучили, как умели. Я жалел его, когда он вот так стоял около меня с трясущимся подбородком и прыгающим кадыком, и даже пробовал подсказывать. Сначала он, бог знает отчего, ужасно оскорбился. «Ты это брось, слышишь? — зашептал он яростно, когда латинист поставил ему тройку с минусом. Глаза его были полны слез. — Мне ни от кого ничего не нужно!» Однако вскоре он привык к тому, что я ему помогаю; он учился более добросовестно, чем я, он был талантлив, честолюбив и чрезвычайно восприимчив, но у него, пожалуй, начисто отсутствовала уверенность в себе; я же хоть ничего толком не знал, зато отличался напористостью. Довольно скоро Фолтын стал вполне на меня полагаться и принимал мои услуги как должное; он смертельно оскорблялся, если я, случалось, не делал за него уроки, — при этом вид у него был такой высокомерный и несчастный, что я едва ли не извинялся за свой проступок. И продолжал ему служить.
Насколько мне известно, родом он из бедной семьи, как и я, отец его служил в канцелярии или где-то в этом роде. Жил он у своей тетушки, старой девы из бывшей местной «знати», на что она существовала, одному богу известно — кажется, сдавала комнату; но как можно просуществовать, сдавая квартиру бедному студенту, ума не приложу. Мне эта тетушка казалась молью, которая питается старыми шерстяными пелеринками и салопами. Своего Бедржичка — так в доме называли племянника — старуха обожала и баловала, насколько возможно при этакой бедности. Бедржичка преследуют, жаловалась она, потому что он гораздо талантливей всех, но когда-нибудь он покажет, какой он способный, и всем будет стыдно! «А мне неинтересно, тетушка, знать, что обо мне думают, — отвечал Фрицек[1], с болезненной заносчивостью встряхивая своей холеной гривой. — Ежели бы не папенька, я бы давно сбежал из этой дурацкой школы… Я знаю, в чем мое призвание, все у нас просто обомлеют!»
Готовить уроки я приходил к Фрицеку. Жили они в крохотной комнатенке с кухонькой; половину комнаты занимало приятно дребезжавшее пианино — память о том времени, когда тетушка, вся в локонах (это было видно на старой фотографии), разучивала «Молитву девы» и «Вечерние колокольчики». Постепенно, как обычно у мальчишек в переломном возрасте, мы сблизились, составив удивительную парочку: он — длинный, с нежной девичьей кожей, с голубыми глазами, с пышной золотой шевелюрой, и я — коротышка, чернявый, с лохмами, торчащими в разные стороны; в общем, в школе весьма потешались над нашим союзом. Однажды мы сидели у них дома, болтая о разных разностях. Смеркалось, в печке догорал огонь, и у меня прямо щемило сердце от избытка внезапно нахлынувшего безымянного чувства; Фрицек молча приглаживал волосы бледными длинными пальцами. «Подожди минутку», — зашептал он вдруг таинственно и исчез в кухне. Немного погодя он вернулся, одетый в какой-то фиолетовый шелковый сюртучок; выступал Фрицек, будто лунатик, как бы взлетая. Молча поднял он крышку пианино, опустился на стул и начал импровизировать. Я знал, что он учится играть, но импровизация — это для меня было ново. Фрицек играл, переходя от мелодии к мелодии, откинув голову и закрыв глаза, потом вдруг наклонился к самой клавиатуре, будто переломившись, еле слышно касаясь клавиш. По мере того как мелодия крепла, выпрямлялся и он, словно и его поднимало и влекло это forte; потом он вдруг ликующе с силой ударил по клавишам и откинулся назад… И не изменил этой позы, даже когда музыка отзвучала, так и сидел — с бледными глазами, будто вперенными в иной мир, и тяжело, прерывисто дышал.