Грант Матевосян - Ташкент
По праву следующим должен был стоять Старший Рыжий, а уж потом только лесничий, но Старшего Рыжего здесь нет, больше того, из-за Старшего Рыжего руководящая ставка по молочным продуктам из Цмакута уплыла, центр назначил на это место овитовца, а Старший Рыжий задумал спихнуть дядю с должности лесничего, дядю спихнуть, а самому занять его место; но у дяди в центре Мелик Смбатыч, и если сейчас Мелик Смбатыч с друзьями поднимает где-нибудь тост и пьёт «за этот стол, за эту скатерть-самобранку и за её создателя», считай, что пьёт за отсутствующего-присутствующего лесничего. И всё же, поскольку Старший Рыжий уже готовый сформировавшийся руководитель и подчинённого из него уже не сделаешь, его свояк замышляет ему должность завклубом (был бы учитель русского немного дальновидным, сообразил бы, что и он в опасности); да и не учитель один в опасности, — а этот Рубен со своим рубильником-носом — сел да и написал в Москву письмо на имя министра обороны: дескать, в книге у маршала Баграмяна налицо такие-то и такие-то неточности; что, по его рядовому мнению инвалида второй группы, многоуважаемый маршал, который тогда был полковником, на такой-то и такой странице день и месяц неправильные назвал. Мы было подумали посредством почтальона изъять это письмо, а потом подумали — нет, зачем же, пусть идёт, вдруг да какая-то польза нам из этого выйдет: если в министерстве обратят внимание и поинтересуются, кто это-де написал, мы отсюда оповестим, что письмо написал действительно участник войны, инвалид-пенсионер, который к тому же от нас зарплату как полевой сторож получает, да зимой в горах Галача и Воскепара хлева сторожит, за это ещё получает. Оставив без присмотра ячмень и овёс в полях, Рубен знай себе строчит свои собственные военные мемуары, а Старший Рыжий на его месте загнал бы гусей и ягнят и телят односельчан в хлев, хлев бы тот запер — и, крутя на пальце ключ, пришёл, стал возле конторы, на своё прежнее место: и были бы бразды правления в какой-то мере — не так, как прежде, конечно, но всё-таки — в руках Старшего Рыжего тоже, и сделал бы Старший Рыжий сторожевую должность в нашем селе особо важной — и при коне.
Следующий, как мы сказали, лесничий. С общим хозяйством непосредственно лесничий не связан, из другого источника финансируется, но пост его здесь, поскольку в своём лице он представляет сгусток местных патриотических сил. А деревья хоть и в поле динамитом взрываются и корчуются, но у деревьев самих языка нет, а имена и тайные помыслы срубивших их посредников обсуждаются опять-таки здесь.
Рядом с лесничим всегда его брат стоял, заведующий овцефермой, но между ними с некоторых пор холодок пробежал, конкретнее — имелись подозрения, что наши попытки посредством Мелика Смбатыча, Владимира Меликяна и в особенности нашего поэта — что наши попытки донести до республиканского руководства наши доводы и аргументы, отстаивающие наше право самостоятельного, социалистическим законом предусмотренного ведения хозяйства, что все эти наши планы, прежде чем дойти до республиканского правительства, сообщаются кем-то в Овит, кто-то отсюда крепко информирует их, и на запрос республиканского правительства у Овита уже готовая контрпрограмма имеется; семейное единство распалось, братья не желали стоять рядом, между ними сейчас стояло два человека: начальство по полевым работам и заведующий пекарней; этот последний договорился с народом и не выпекал хлеба, а муку продавал по государственным расценкам на хлеб и, несмотря на то что для обсуждения краеугольного вопроса нашей автономии у него не хватало ни ума, ни языка, ни даже особого, прямо скажем, желания, он вместе с полевым начальством был налицо — с тяжёлой, как мучной куль, головой, с вечно заложенным носом, стоял посапывал. С начальником полевых работ, когда тот ещё школьником был и в особенности потом, когда в группе самодеятельности Завода декламировал и пел со сцены, — с ним наш народ большие надежды связывал, большое будущее ему у нас прочили, говорили, артистом станет, сразу два таланта в себе соединит, Шара Тальяна и Сурена Кочаряна, но в один прекрасный день он вернулся в село, ага, сказали, центр радости перемещается в Цмакут, на наших свадьбах будет кому теперь петь, но давно уже здесь не играют свадеб и, считай, что никто не рождается — последние школьные звонки звучат, в скором времени и этого не станет, с одной стороны — это, а с другой стороны, у него все шутки-прибаутки и даже песни какие-то по-городскому непристойные были, и он всегда говорил — пусть женщины выйдут, что-то расскажу… в конце концов ему сказали — заткнись и ступай на свои полевые работы, а какие там полевые работы: несколько гектаров картошки, машина всё делает, опять же механизированная обработка неопределённо малой части старых бескрайних цмакутских покосов — вот и вся его работа, да ещё, когда здесь устраивают угощение для овитовского руководства, молча, покорно вместе со всеми идёт в дом, где застолье, и, за чей бы счёт оно ни было, в меру ест и в меру пьёт и всегда держит горло наготове, на тот случай, если попросят, спой, мол, или прочти стихи, но его не просят, и он молча сидит рядом со всеми.
Руководство Тэвана, Ростом Маленький, рядом с братом своим Большим Ростомом, должен был стоять; конечно, когда два Ростома становились рядом, при виде их овитовец сильно смущался и начинал в мыслях стесняться, что лишил это село самостоятельности; но вот уж несколько дней Ростом Маленький был обижен и, став с краю, — мол, и не брат я тебе больше, и не руководитель, — задыхался, зажатый между собственной тяжёлой силой и давящим этим положением, и оттого, что выхода не было, скверно ему было, очень скверно… да-а-а, были мы на консервном заводе грузчиками на погрузке-разгрузке-переброске (тут-то мы и скажем, что во главе бригады стояли, пятнадцать — двадцать человек под нашим началом работало), то есть громадную подводу в тонну мы в одиночку толкали глупой своей силой — и ничего, лицо только от натуги багровело… и, представь, неплохую зарплату имели; светлой памяти наш отец приехал к нам как-то и в общежитии сделался жертвой древесной вши, распух от октемберянской мошкары (мы уже привыкли, эта самая древесная вошь по нас ползала и не кусала), задохнулся в сладких парах консервного завода, затошнило его от компотов, вареньев и вообще от всего сладкого: «Хватит, — закричал, — так-перетак несчастную твою мать, собирайся в дорогу, в цмакутских горах не заведующим фермой будешь, простым пастухом», а мы уже на очереди были, обещали через два года жильём обеспечить, и не всё же нам в грузчиках было оставаться, отправили бы нас на шестимесячные курсы… да-а-а, в будке на станции каждый вечер из Еревана бочковое пиво получали, жёлтая пена густая поднималась, двадцать минут по часам стояла. Мы отцу сказали: «Народ опрометью бежит из твоего Цмакута, куда ты меня в эту пустыню тащишь?» — «Так-перетак безмозглых твоих родителей, для твоей же пользы тащу», и, представь, была в этом логика, поскольку многие из Цмакута бежали, их место доставалось нам, но это была логика смерти: все убежали, все ушли, осталась одна облезлая хромая кошка, и из-за неё — дядя и племянник — сшибаемся в схватке, готовы убить друг друга, дело доходит до области…. да-а-а, не руководством мы стали — хранителями кладбищ и старых памятников, а наше овитовское руководство нет чтобы убегающих уговором или же запретом и угрозами удержать, наоборот, один брат-директор беспрепятственно отсюда посылает, а другой брат-директор с раскрытыми объятиями там принимает, устраивает на химзавод, да ещё и похваляется, пусть, мол, хоть десять Цмакутов приедет — всех устрою; ну, думаем, этот перед своей славой совсем уже ослеп и оглох, ничего не понимает, ежели что человеческое и осталось, то скорее уж в здешнем, давайте-ка мы этого откупом возьмём, может, проснётся совесть в человеке — сам от Цмакута откажется, пойдёт и скажет в центре, отказываюсь, мол, руководить этой цмакутской путаницей, не желаю разорять своей рукой дом соседа; мы с ребятами сложились, месяц целый мы эту сумму в кармане таскали, дважды клали пачку на перила мураденцевского балкона, боимся, дескать, отказа с его стороны, скандала боимся, как-никак награждённый орденом человек, и брат при наградах, брата завод план перевыполняет, а пока он не сел на директорское место — завод планов вовсе не выполнял, запущенные вконец рудники не давали заводским печам сырья, он по своей личной инициативе объединил руководство рудников и завода, должность эту назвал «генеральный директор» и, говорят, очень умело всем заправляет, на министров, говорят, повышает голос, когда кого угощает, сам на банкеты не ходит, заместителей своих посылает, по линии угощений особого заместителя-хозяйственника держит… а отец ихний хоть и из Ватинянов, но скромный такой, тихий пастух, до сих пор, говорят, удивляется на силу своего семени, и это обстоятельство нас обнадёжило: не помним уже, кому в голову пришло, дай-ка, сказали себе, отца повидаем, попробуем на сыновей через него воздействовать — и, представь, отец был очень даже польщён, взял нас под руку, повёл к сыну и говорит: что ни попросят эти люди — сделаешь, а не то, сказал, сукин сын, пойдём в город к твоему же братцу на тебя жаловаться; он отца из кабинета выставил, а нам сказал: Тиграныч, сказал, целый месяц с деньгами в кармане крутишься, знаю, боишься подступить, и правильно делаешь, неужели ж ты за этот месяц не понял, что затея бессмысленная? То есть как это бессмысленная? А так, что ты за две тысячи купил дорогое лекарство и хочешь оживить своего мертвеца, но мертвец-то всё равно уже мёртвый, вот почему затея бессмысленная. Двинулись мы дальше — заводской Ватинян по телефону с Москвой разговаривал, трубку рукой прикрыл, про тутошнего Ватиняна, про своего брата, сказал — скажешь ему, чтоб твоего отца пустую башку — да-а-а… Потом мы с одним уволенным инспектором на трояк пива выпили и узнали, что у Завода много средств и вроде бы он исполкому сказал: прокладываю на свои средства прямую дорогу на Овит и Цмакут, пониже Дарпаса пройдёт; исполком пока сумел сказать: «Нет» — у заводского овитовца на уме не одна только эта дорога: по телефону когда разговаривал, нам сказал: «Те груши, а?» — в Австрии или Америке видел и теперь хочет снести старое село, а в грушевой роще, что напротив, штук пять белых высотных домов для рабочих выстроить, нам сказал: «Тебя с сыном беру в плавильню, жена какого года, жену отправляю на трикотажную фабрику…» И про эту его программу очень хорошо было известно здешнему Ватиняну, и, чтобы раз и навсегда отрезать воспоминания брата от нашего оврага, здешний привёл бульдозер, тросы здоровые приволок и вековые сорок груш трактором и бульдозером быстренько выкорчевал — приходи, дескать, строй теперь свои высотные дома, чтоб твоего отца пустую башку, посмотрим, на каких это опушках детства ты будешь теперь располагаться; наш брат Ростом Большой, поскольку у него самого никаких прямых наследников нет и его вечным памятником должен быть Цмакут и цмакутские грядущие поколения, то есть это они будут рассказывать про его дела, про его тяжёлую железную спину, поднимаясь из оврага — от нас как раз шёл, — Ростом остановился, стал как вкопанный, задохнулся и обвинил нас, что мы надвое действовали и ни тамошнего наглеца как следует не урезонили, ни тутошнего самодура, но откуда в нас такая жестокость, чтобы сесть напротив, положить руку на стол и сказать: «Слушай, товарищ, один Ростом ты, другой я, вдвоём выполняем завет нашего отца — не бог весть каким делом заняты, а всё же Цмакут всё ещё на месте благодаря нашим с тобой стараниям, но завтра, что будет здесь делать завтра наш ребёнок?»
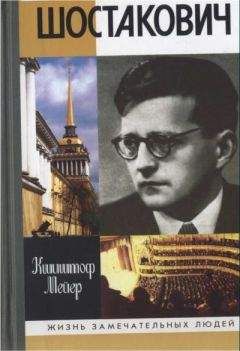

![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/uploads/posts/books/44925/44925.jpg)

