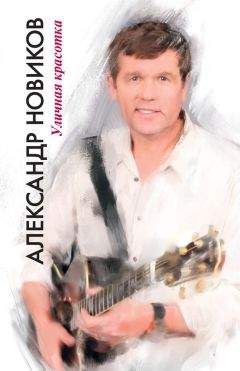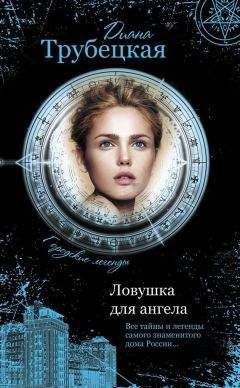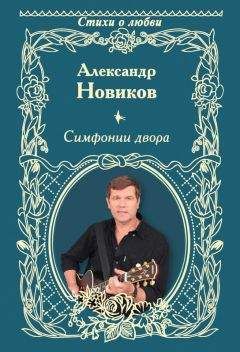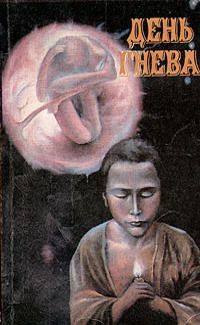Кен Кизи - Порою нестерпимо хочется...
Когда мое мокрое паломничество приблизилось к завершению и впереди замаячил гараж, нос у меня уже перестал течь, а поднявшийся ветер разогнал над головой тучи. И все же беспокойство мое возвращалось, снова и снова тявкая БЕРЕГИСЬ БЕРЕГИСЬ, на сей раз приводя в качестве аргумента слишком поздний час: ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ОНИ ПОЙМАЮТ ТЕБЯ… И тут, когда я бы потратил еще час на препирательства вокруг этого довода, он сам собой испарился: не успел я сойти с шоссе на гравий, как увидел брата Хэнка собственной персоной во взмывшем пикапе – лицо напряжено в очевидном намерении добраться до города, для того чтобы отыскать старика, – в этом я не сомневался.
Это видение рассеяло мою очередную уловку, и, даже не задумавшись, откуда у Хэнка мог взяться пикап, если старик до него не доехал, я отправился к лодке, уже не в состоянии сочинять какие-либо отговорки. «Вот твой шанс войти в игру, – сказал я себе, – безопасность обеспечена, никаких ловушек, путь свободен».
Пытаясь убедить себя, что я рад тому, что обстоятельства расчистили мне дорогу.
И действительно, казалось, путь открывается все шире и выглядит все заманчивее. Выхолощенные и вдруг съежившиеся тучи неслись над макушками деревьев, вспять к океану за новым грузом, оставляя землю заморозку. И лодка, когда я снял брезент, оказалась сухой. Лунные блики мигали, как ртуть, на моторе, указывая моим рукам нужные действия; веревку стартера не заело, мотор завелся с первой же попытки и загудел ровным, наполненным звуком; швартовы слетели со сваи при одном моем прикосновении, и нос лодки развернулся точно к дому, как стрелка компаса. Из блестящего от измороси леса донесся рев лося, кричавшего не то от похоти, не то от холода, – не знаю, знаю лишь одно: этот высокий, пронзительный клич подхлестнул меня, словно мелодия флейты сатира. Свет из окна Вив стелился ко мне по воде сияющим ковром… путеводной звездой светил мне на сумрачной лестнице… мягко струясь из-под двери. Все было безукоризненно. «Я буду истинным мустангом, – говорил я себе, – живым воплощением Казановы…» – и уже занес руку, чтобы постучаться, как меня обуял новый страх: что, если у меня не получится. – Я ЖЕ ГОВОРИЛ ТЕБЕ – БЕРЕГИСЬ! – Что, если я разгонюсь, как мустанг, и все будет напрасно!
Кошмар такой перспективы потряс меня до глубины души: после маминого самоубийства неудачи преследовали меня в этой области, а сейчас, когда прошло уже несколько месяцев после последней бесплодной попытки, на что я мог рассчитывать? Может, потому-то я и медлил так долго, может, об этом-то и предупреждал меня Верняга, может, надо…
Но тут из комнаты донесся голос: «Входи, Ли», и я понял, что бежать слишком поздно, даже если эта угроза была реальной.
Я приоткрыл дверь и просунул в щель голову.
– Только сказать «привет», – произнес я и прозаично добавил: – Шел пешком из города…
– Я очень рада, что ты здесь, – ответила она и добавила более жизнерадостно: – А то мне тут одной уже стало становиться страшновато. О Господи! Ты вымок! Садись к рефлектору.
– Мы расстались с Генри в больнице, – робко промямлил я.
– Да? И куда же он отправился, как ты думаешь?
– Ну, куда мог отправиться Генри? Вероятно, за новой порцией гилеадского бальзама…
Вив улыбнулась. Она сидела на полу с книжкой в руках перед пышущим, гудящим оранжевым рефлектором. На ней были узкие зеленые брюки и одна из клетчатых шерстяных рубах Хэнка, которая – я мог поспорить – так колется, так колется. Сияние электрических спиралей отражалось от ее лица и волос, и от этого казалось, что они влажно струятся глубокими роскошными волнами.
– Да, – повторил я, – наверное, зашел к Гилеаду за бальзамом…
После вводных приветствий и «как ты думаешь?», а также напряженной тишины, наступившей вслед за этим, я киваю на книгу:
– Я вижу, ты продолжаешь совершенствоваться.
Она улыбается:
– Это Уоллес Стивене. – С извиняющимся видом она поднимает на меня глаза. – Не знаю, все ли я понимаю…
– Не думаю, чтобы это кому-нибудь удавалось.
– …но мне нравится. Ну, даже если я не понимаю, я все равно что-то чувствую, когда читаю. В некоторых местах я ощущаю счастье, другие – просто смешные. А порой, – она снова опускает глаза к книге, лежащей у нее на коленях, – меня охватывает такая тоска.
– Тогда я уверен, что ты понимаешь все! Мой энтузиазм повлек за собой еще одну напряженную паузу, потом она снова вскинула голову:
– Ой, а что тебе сказали у врача?
– Много чего. – Я снова попробовал вернуться к хохме. – «Сними штаны и ложись». А следующее, что я помню, – это как мне накачивают легкие нюхательными солями.
– Вырубился?
– Начисто.
Она тихо посмеивается, а потом, понизив голос, доверительно сообщает:
– Хочешь, я тебе кое-что расскажу, если ты пообещаешь не донимать его?
– Истинный крест. А кого донимать и чем?
– Генри. После того, как он рухнул с этих скал. Когда они привезли его с лесосеки, он ругался и вел себя здесь просто ужасно, а потом, когда мы повезли его к врачу, затих. Ну знаешь, как это с ним бывает. Ни звука не проронил, пока его осматривали, только над сестрами подсмеивался и подшучивал, что они так цацкаются с ним. «Ничего особенного, так, крылышко вывихнул, – повторял он. – У меня и похуже бывало, несравненно хуже! Давайте вправляйте его на место! Мне на работу надо!»
Мы вместе посмеялись над басом, которым Вив пыталась подражать Генри.
– А потом, – продолжила она, возвращаясь к доверительному тону, – они достали шприц. Иголка была не такой уж длинной, но, конечно, все-таки достаточно большой. Я знала, какие он к ним испытывает чувства, и вижу – старина побледнел как полотно. Но, понимаешь, он решил не сдаваться и продолжал держать фасон. «Давайте, давайте, давайте, колите меня, да побыстрее, чтобы я мог вернуться на работу!» – рычал он. И тут, когда они его укололи – такого крутого и смелого, несмотря на переломанные кости, – он только дернулся и скорчил гримасу, но до нас долетел какой-то звук, и когда я присмотрелась, то увидела, что он весь обмочился и по ноге прямо на пол бежит струйка!
– Нет, не может быть! Генри? О нет, Генри Стампер? О-о-о! О Боже!.. – Я разразился таким хохотом, каким не смеялся, кажется, никогда в жизни. Представив себе выражение потешного изумления на лице Генри, я уже не мог издать ни звука и только беззвучно сотрясался. – О Боже!., это потрясающе, о Господи!..
– И… и, нет, ты послушай, – продолжила она шепотом, – когда мы пошли переодевать его в пижаму, ты послушай, после этого укола, который его сразил… мы обнаружили, что он не только обмочился.
– О Господи!., это грандиозно, могу себе представить…
Мы смеялись и смеялись до тех пор, пока не наступила неловкая пустота, всегда следующая за слишком продолжительным весельем, точно такая же, как наступает после долгого раската грома: мы снова смущенно умолкли, оглушенные и испуганные одной и той же мыслью. «Какой смысл пытаться?» – вопрошал я себя, глядя на прядь ее волос, которая, как блестящая стрела, сбегала по ее профилю и уходила за ворот рубашки… Что мечтать попусту? Ты не можешь это сделать, вот и все. Давно пора было сообразить, что то самое оружие слабости, которое должно было обеспечить тебе победу над братом Хэнком, не дает тебе вкусить плоды этой победы. Тебе следовало бы знать, что безвольная импотенция, которая обеспечивает тебе победу над ним, никогда не будет понята и принята с должным тактом…
Я стоял, взирая на Вив, на ее скромное, безмолвное и совершенно очевидное предложение себя, пытаясь философски осмыслить свою органическую неспособность принять это предложение… И тут интересующий нас орган начал приподниматься, отметая эту новейшую отговорку и с пульсирующей настойчивостью требуя предоставить ему возможность доказать свою дееспособность. Наконец все препятствия были преодолены, и от желанной цели меня отделяло не более нескольких футов – все доводы рассеяны и отговорки исчерпаны, – и все же внутренний голос не давал мне сдвинуться с места. «Берегись берегись», – пел он. «Чего? – кричал ему я, на грани потери чувств от расстройства. – Пожалуйста, скажи мне, чего беречься?»
ПРОСТО НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО – был ответ; ЭТО БУДЕТ МЕРЗКАЯ СЦЕНА…
Для кого? Я в безопасности – я это знаю. Мерзкая сцена для Хэнка? Для Вив? Для кого?
ДЛЯ ТЕБЯ, ДЛЯ ТЕБЯ…
И потому, вдоволь намучившись в этой гнетущей тишине, я вздохнул и промямлил что-то типа: мол, ладно, наверное, лучше – ну для простуды и вообще, – если я пойду лягу. Она кивнула не поворачиваясь: «Да, наверное…» – «Ну, спокойной ночи, Вив…» – «Спокойной ночи, Ли, увидимся утром…»
При виде моей трусости она опускает глаза, и я выскальзываю из комнаты. К горлу подкатывает тошнота, и сердце сжимает от стыда за свое бессилие, которое теперь уже не может быть отнесено за счет обычной импотенции…
(Я торможу перед больницей, и когда вынимаю старика, чтобы везти его в операционную, вижу, что рука его отделилась от туловища. Она вываливается из разодранного рукава на мостовую, как змея, меняющая кожу. Я оставляю ее на земле. Мне сейчас не до того. Что-то еще меня мучает, если бы я только мог вспомнить…